Читать онлайн Нюрнбергский эпилог бесплатно
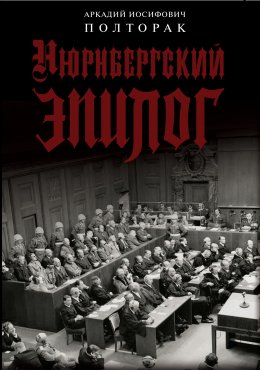
© ООО ТД «Белый город», 2023
* * *
От издателей
Данное издание предваряет выход в свет ранее никогда не издававшейся рукописи А.И. Полторака «Под перекрестным допросом. Дело нацистского генштаба в Нюрнберге».
Предисловие
Эта книга, выпущенная в СССР двумя массовыми тиражами, получила высокую оценку широкого круга читателей в нашей стране и за ее пределами как публицистическая работа, посвященная Нюрнбергскому международному трибуналу, который явился одним из важных событий, завершивших великую победу свободолюбивых народов мира над силами агрессии и расизма – германским фашизмом во Второй мировой войне.
В ночь на 9 мая 1945 года в здании военно-инженерного училища в берлинском пригороде Карлсхорсте был подписан акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.
Судьба Второй мировой войны, самой кровавой и опустошительной во всей истории человечества, решилась задолго до этого. Уже отгремели уличные бои в Берлине и над зданием рейхстага развевалось Красное знамя. Уже покончил самоубийством главарь фашистской клики Гитлер, поставивший перед немецкими фашистами задачу захвата мирового господства и некогда надменно заявивший: «Даже если мы не сможем это завоевание осуществить, мы вместе с собой разрушим полмира… 1918 год не повторится. Мы не капитулируем».
Подвиг советского народа развеял в прах злодейские замыслы нацистов. Человеческая цивилизация была спасена ценой величайших усилий и жертв всех держав антигитлеровской коалиции, и в первую очередь Советского Союза. Гитлеру не удалось разрушить полмира, но в ходе развязанной им агрессивной войны фашистами были совершены чудовищные злодеяния, равных которым еще не знало человечество.
Эти злодеяния планировались и исподволь хладнокровно готовились одновременно с разработкой планов очередных актов агрессии. Собираясь проглотить Чехословакию, нацистские генералы из верховного командования совместно с СС из гиммлеровской службы имперской безопасности обдумывали деятельность эйнзатцгруппы, задачей которой явилось не только уничтожение всех оппозиционных элементов, но и массовое истребление славянских народов этой страны для последующей полной «германизации» захваченных территорий. Готовя план агрессивного вторжения в Советский Союз, так называемый «план Барбаросса», гитлеровские палачи разрабатывали вместе с ним «,распоряжение об особой подсудности в районе Барбаросса» – чудовищный документ, в котором зверства по отношению к мирному населению и военнопленным возводились в разряд государственной политики.
Задолго до начала агрессии против Советского Союза Гитлер говорил одному из своих приближенных Раушнингу: «Мы должны развить технику обезлюживания. Если вы спросите меня, что я понимаю под обезлюживанием, я скажу, что имею в виду устранение целых расовых единиц, и это то, что я намерен осуществить, это, грубо говоря, моя задача. Природа жестока, поэтому и мы можем быть жестокими… Я имею право устранить миллионы людей низших рас, которые размножаются, как черви».
Во имя этой каннибальской программы и были созданы быстродействующие препараты для умерщвления людей, такие как «циклон А» и «циклон Б», сконструированы такие машины смерти, как газенвагены, или «душегубки», агрегаты для дробления человеческих костей, аппаратура для производства из них химических удобрений, разработаны особые методы выделки для промышленных целей человеческой кожи. Во имя этого же создавались специальные фирмы, которые проектировали различные типы мощных кремационных печей для лагерей уничтожения.
Всякая агрессивная война, развязываемая империализмом, является тягчайшим преступлением против мира и человечества. Но в истории войн еще не было такой концентрации чудовищных преступлений и таких масштабов преступной деятельности, какие позволил себе гитлеризм во время Второй мировой войны. А ведь, по планам Гитлера и его сообщников, окончание этой войны должно было явиться началом новых злодеяний в отношении покоренных народов.
За годы Второй мировой войны в концлагерях и пунктах массового уничтожения людей при так называемых «специальных акциях» эйнзатцкоманд, в газовых камерах, путем злодейских экспериментов и другими изуверскими способами было умерщвлено не менее двенадцати миллионов человек. В ближайшие же послевоенные годы нацисты планировали уничтожить еще тридцать миллионов славян. Эти злодейские расчеты облекались в форму приказов и инструкций.
Но вопреки воле маньяков Вторая мировая война окончилась полным разгромом фашистской государственной и военной машины. Наступил час расплаты за совершенные злодеяния.
Международный военный трибунал не мог не быть создан, так как мировое общественное мнение никогда не примирилось бы с освобождением преступников от наказания. Еще в Декларации глав трех держав антигитлеровской коалиции, опубликованной в октябре 1943 года, виновники злодеяний, принимавшие непосредственное участие в зверствах, убийствах и казнях на оккупированных территориях, предупреждались о том, что «будут отосланы в страны, в которых были совершены их отвратительные действия, для того чтобы они могли быть судимы и наказаны в соответствии с законами этих освобожденных стран». «…Пусть те, кто еще не обагрил своих рук невинной кровью, – говорилось в той же Декларации, – учтут это, чтобы не оказаться в числе виновных, ибо три союзные державы наверняка найдут их даже на краю света и передадут их в руки их обвинителей с тем, чтобы смогло совершиться правосудие». Вместе с тем Декларация констатировала, что в ней не затрагивается вопрос о главных немецких военных преступниках, действия которых не связаны с определенным географическим местом и которые будут наказаны совместным решением правительств-союзников.
Требование создать специальный Международный военный трибунал для суда над преступными руководителями нацистского режима содержалось в заявлении Советского правительства от 14 октября 1942 года «Об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими в оккупированных странах Европы». Выражая волю всего прогрессивного человечества, Советское правительство заявило тогда, что оно «обязано рассматривать суровое наказание этих уже изобличенных главарей преступной гитлеровской шайки как неотложный долг перед бесчисленными вдовами и сиротами, родными и близкими тех невинных людей, которые зверски замучены и убиты по указаниям названных преступников. Советское правительство считает необходимым безотлагательное предание суду специального Международного трибунала и наказание по всей строгости уголовного закона любого из главарей фашистской Германии, оказавшихся уже в процессе войны в руках властей государств, борющихся против гитлеровской Германии».
Тогда же, в октябре 1942 года, президент Соединенных Штатов Америки Франклин Рузвельт, несомненно под воздействием широкой американской общественности, тоже поднял свой голос против нацистских заправил Германии. Он недвусмысленно высказался о том, что эта «клика лидеров и их жестоких сообщников должна быть названа по имени, арестована и судима в соответствии с уголовным законом».
Таким образом, учреждение Нюрнбергского международного трибунала вполне отвечало и чаяниям народов о суровом наказании главных нацистских военных преступников, и официальным заявлениям правительств антигитлеровской коалиции, прозвучавшим на весь мир еще в ходе войны.
Форма судебного процесса, проведенного в строгом соответствии с общепринятыми процессуальными нормами правосудия, в том числе с предоставлением обвиняемым защиты, не только давала возможность тщательно и объективно исследовать доказательства виновности конкретных лиц, но и имела громадное значение для разоблачения всех гнусностей фашизма, порожденного германским монополистическим капиталом.
Боязнь справедливого возмездия заставила покончить самоубийством Гитлера, Гиммлера, Геббельса. Эта же боязнь привела к самоубийству уже в камере нюрнбергской тюрьмы душителя германских профсоюзов Лея. Однако большинство наиболее активных соучастников Гитлера не ушло от ответа. Они предстали перед Международным военным трибуналом, были судимы и подверглись справедливому наказанию.
Суду предавались:
Герман Вильгельм Геринг – рейхсмаршал, главнокомандующий военно-воздушными силами фашистской Германии, уполномоченный по четырехлетнему плану, ближайший помощник Гитлера с 1922 года, организатор и руководитель штурмовых отрядов (CA), один из организаторов поджога рейхстага и захвата власти нацистами;
Рудольф Гесс – заместитель Гитлера по фашистской партии, министр без портфеля, член тайного совета, член совета министров по обороне империи;
Иоахим фон Риббентроп – уполномоченный фашистской партии по вопросам внешней политики, затем посол в Англии и министр иностранных дел;
Роберт Лей – один из видных руководителей фашистской партии, главарь так называемого «трудового фронта»;
Вильгельм Кейтель – фельдмаршал, начальник штаба верховного главнокомандования Германии (ОКВ);
Эрнст Кальтенбруннер – обергруппенфюрер СС, начальник главного имперского управления безопасности (РСХА) и начальник полиции безопасности, ближайший помощник Гиммлера;
Альфред Розенберг – заместитель Гитлера по вопросам «духовной и идеологической» подготовки членов фашистской партии, имперский министр по делам оккупированных восточных территорий;
Ганс Франк – рейхслейтер фашистской партии по правовым вопросам и президент германской академии права, затем имперский министр юстиции, генерал-губернатор Польши;
Вильгельм Фрик– имперский министр внутренних дел, протектор Богемии и Моравии;
Юлиус Штрейхер – один из организаторов фашистской партии, гаулейтер Франконии (1925–1940 гг.), организатор еврейских погромов в Нюрнберге, издатель ежедневной антисемитской газеты «Дер Штюрмер», «идеолог» антисемитизма;
Вальтер Функ – заместитель имперского министра пропаганды, затем имперский министр экономики, президент рейхсбанка и генеральный уполномоченный по военной экономике, член совета министров по обороне империи и член центрального комитета по планированию;
Яльмар Шахт – основной советник Гитлера по вопросам экономики и финансов;
Густав Крупп фон Болен унд Гальбах – крупнейший промышленный магнат, директор и совладелец заводов Круппа, организатор перевооружения германской армии;
Карл Дениц – гросс-адмирал, командующий подводным флотом, затем главнокомандующий военно-морскими силами Германии и преемник Гитлера на посту главы государства;
Эрих Редер – гросс-адмирал, бывший главнокомандующий военно-морскими силами Германии (1935–1943 гг.), адмирал-инспектор военно-морского флота;
Бальдур фон Ширах – организатор и руководитель гитлеровской организации «Гитлерюгенд», гаулейтер фашистской партии и имперский наместник молодежной Вены;
Фриц Заукель – обергруппенфюрер СС, генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы;
Альфред Йодль – генерал-полковник, начальник штаба оперативного руководства верховного командования вооруженных сил;
Франц фон Папен – крупнейший международный шпион и диверсант, руководитель немецкого шпионажа в США еще в период Первой мировой войны, один из организаторов захвата власти гитлеровцами, был посланником в Вене и послом в Турции;
Артур Зейсс-Инкварт – видный руководитель фашистской партии, имперский наместник Австрии, заместитель генерал-губернатора Польши, имперский уполномоченный по оккупированным Нидерландам;
Альберт Шпеер – близкий друг Гитлера, имперский министр вооружений и боеприпасов, один из руководителей центрального комитета по планированию;
Константин фон Нейрат – имперский министр без портфеля, председатель тайного совета министров и член имперского совета обороны, протектор Богемии и Моравии;
Ганс Фриче – ближайший сотрудник Геббельса, начальник отдела внутренней прессы министерства пропаганды, затем руководитель отдела радиовещания;
Мартин Борман – руководитель партийной канцелярии, секретарь и ближайший советник Гитлера[1].
Кроме того, учредившие Международный трибунал державы передали на его рассмотрение дела о преступных организациях: «охранных отрядах» нацистской партии (СС); тайной полиции – гестапо (включая так называемую «службу безопасности»); руководящем составе гитлеровской партии; штурмовых отрядах (СА); имперском кабинете; генеральном штабе и верховном командовании гитлеровских вооруженных сил. Рассмотрение этих дел показало действие сложного и всеобъемлющего механизма, который использовался нацистами для осуществления их злодейских планов.
Характеризуя отличительные особенности Нюрнбергского процесса, главный обвинитель от СССР Р.А. Руденко указывал, что это первый случай, когда перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством и сделавшие самое государство орудием своих чудовищных преступлений.
День официального окончания Второй мировой войны от дня начала заседаний Международного трибунала отделяло немногим более шести месяцев. За это время были разработаны Устав и правила процедуры Международного военного суда, собраны и систематизированы основные доказательства обвинения, составлено обвинительное заключение, налажена и скоординирована деятельность довольно громоздкого аппарата, представившего четыре союзные державы.
Несмотря на относительную непродолжительность периода следствия, объем доказательств, представленных обвинением, оказался весьма велик. Трибунал рассмотрел более трех тысяч подлинных документов, допросил около двухсот свидетелей (кроме того, несколько сот свидетелей были допрошены по поручению трибунала особыми комиссиями) и принял триста тысяч письменных показаний.
Значительную часть доказательств составляли подлинные документы, захваченные союзными армиями в германских армейских штабах, в правительственных зданиях и в других местах. Некоторые из этих документов были обнаружены в соляных копях, в подземных тайниках, за ложными стенами.
В книге А.И. Полторака достоверно рассказывается об обстановке, в которой проходила работа Международного военного трибунала. Десятки юристов, которыми были представлены здесь СССР, США, Великобритания и Франция, в большинстве своем отличались высокой квалификацией. Но политические и правовые воззрения у них были резко различными. И тем не менее, за редким исключением, на всем протяжении процесса они работали дружно и были едины в своем стремлении установить истину, воссоздать полную и подлинную картину гитлеровских злодеяний, справедливо наказать виновников.
В немалой степени такому единству юристов держав антигитлеровской коалиции способствовал самый характер действий преступников, представших перед Международным военным судом, объем, неслыханная жестокость и бесчеловечный цинизм их преступлений. Верно сказал в своей вступительной речи главный обвинитель от США, ныне покойный, выдающийся американский юрист Р. Джексон:
«Наши доказательства будут ужасающими, и вы скажете, что я лишил вас сна. Но именно эти действия заставили содрогнуться весь мир и привели к тому, что каждый цивилизованный человек выступил против нацистской Германии. Германия стала одним обширным застенком. Вопли ее жертв были слышны на весь мир и приводили в содрогание все цивилизованное человечество. Я один из тех, кто в течение этой войны выслушивал подозрительно и скептически большинство рассказов о самых ужасных зверствах. Но доказательства, представленные здесь, будут столь же ошеломляющими, что я беру на себя смелость предугадать, что ни одно из сказанных мною слов не будет опровергнуто; подсудимые будут отрицать только свою личную ответственность или то, что они знали об этих преступлениях».
Предсказания Джексона оправдались. Если на первых заседаниях трибунала подсудимые еще пытались голословно отрицать свою виновность, то в дальнейшем, в ходе судебного разбирательства, они были буквально подавлены доказательствами. Опровергнуть эти в большинстве своем документальные доказательства или показания жертв и очевидцев преступлений было невозможно.
В своей книге А.И. Полторак – участник Нюрнбергского процесса с первого и до последнего его дня, непосредственно занимавшийся оформлением документации советской части Международного трибунала, – хорошо сумел передать атмосферу, господствовавшую тогда в зале суда и кулуарах, дал яркие и такие точные характеристики некоторым из подсудимых. А напомнить сейчас об этих преступниках не мешает. История их преступлений и позорного конца далеко выходит за пределы личных биографий.
Когда еще кровоточили раны, нанесенные миру гитлеровской агрессией, тот же главный обвинитель от США Р. Джексон, вступительную речь которого мы уже цитировали, говорил:
«Это судебное разбирательство приобретает значение потому, что эти заключенные представляют в своем лице зловещие силы, которые будут таиться в мире еще долго после того, как тела этих людей превратятся в прах. Эти люди – живые символы расовой ненависти, террора и насилия, надменности и жестокости, порожденных властью. Это – символ жестокого национализма и милитаризма, интриг и провокаций, которые в течение одного поколения за другим повергали Европу в пучину войны, истребляя ее мужское население, уничтожая ее дома и ввергая ее в нищету. Они в такой мере приобщили себя к созданной ими философии и к руководимым ими силам, что проявление к ним милосердия будет означать победу и поощрение того зла, которое связано с их именами. Цивилизация не может позволить себе какой-либо компромисс с социальными силами, которые приобретут новую мощь, если мы поступим двусмысленно или нерешительно с людьми, в лице которых эти силы продолжают свое существование».
Принципы Нюрнбергского трибунала, одобренные и утвержденные как принципы международной уголовной юстиции Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, ныне кое-кто хотел бы предать забвению.
На Западе неоднократно пытались и сейчас не оставляют попыток амнистировать нацистских военных преступников. До сих пор многие из них, а также те, кто активно сотрудничал с нацистами, безнаказанно разгуливают на свободе, находят пристанище в США, ФРГ, других капиталистических государствах. Правительства этих стран отказываются выдать негодяев, совершивших тягчайшие злодеяния, и сами не привлекают их к законной ответственности.
Несколько лет назад перед студентами Нюрнбергского университета выступил бывший помощник от США Роберт Кемпнер (фамилия его упоминается в книге А.И. Полторака) и справедливо заметил при этом, что в Германской Федеративной Республике не проводилось никаких расследований в отношении более чем семи тысяч должностных лиц из «имперского управления безопасности», того самого РСХА, преступный руководитель которого Э. Кальтенбруннер был повешен по приговору Международного трибунала. Не привлечены к ответственности и многие члены нацистских трибуналов, выносивших смертные приговоры участникам движения Сопротивления, антифашистам и другим противникам гитлеровского режима.
В памяти участников Нюрнбергского процесса навсегда останется допрос бывшего коменданта Освенцима оберштурмбанфюрера СС Гесса. Когда Гессу был задан вопрос: «Правда ли, что эсэсовские палачи бросали живых детей в пылающие печи крематориев?» – он немедленно подтвердил правильность этого. А дальше заявил: «Дети раннего возраста непременно уничтожались, так как слабость, присущая детскому возрасту, не позволяла им работать… Очень часто женщины прятали детей под свою одежду, но, конечно, когда мы их находили, то отбирали детей и истребляли». Гесс признал, что за то время, когда он был комендантом лагеря (с мая 1940-го по декабрь 1943 года), в газовых печах Освенцима было истреблено два миллиона пятьсот тысяч человек и, кроме того, еще пятьсот тысяч погибло от болезней и голода. Материалами же смешанной польско-советской государственной комиссии подтверждено, что всего в Освенциме умерщвлено более четырех миллионов человек.
В своем приговоре Международный трибунал констатировал, что нацистские «концентрационные лагеря превратились в места организованных систематических убийств», эти убийства совершались с кощунственным глумлением над жертвами. Нередко живые люди становились объектом безжалостных экспериментов, включая «опыты по определению условий на больших высотах, когда жертвы помещались в камеры с пониженным давлением, опыты, целью которых служило определить, сколько времени человеческое существо может прожить в ледяной воде, опыты с отравленными пулями, опыты с заразными болезнями, опыты по стерилизации мужчин и женщин рентгеновскими лучами и путем применения других методов».
Мы посчитали необходимым воспроизвести здесь эти извлечения из приговора Нюрнбергского трибунала для того, чтобы еще раз показать всю несостоятельность попыток некоторых буржуазных политиков под обычно сроки давности уголовного преследования действия нацистов, виновных в совершении кровавых преступлений, по своим масштабам, жестокости и цинизму не имевших равных в истории. Однако обмануть народы мира не так просто. Под влиянием искреннего возмущения попытками буржуазных правоведов и псевдоисториков «обелить» военных преступников, представить их людьми «с добрыми намерениями», многие крупные буржуазные юристы выступили с заявлениями, в которых показали полную несостоятельность подобной аргументации. Волна общественного мнения каждый раз поднимется во всем мире, и эта грозная волна лишний раз показывает, что совесть человечества никогда не примирится с попытками оправдать злодеяния фашизма.
Идеологи реванша пытаются оклеветать Нюрнбергский процесс, предать забвению и поставить под сомнение сами гитлеровские зверства, представить приговор и всю деятельность Международного военного трибунала как расправу победителей над побежденными. Разумеется, это – напрасные попытки в отношении людей, хранящих в своей памяти события военных лет. Но очень важно, чтобы и те, кто родился во время войны или после нее, тоже знали правду о злодеяниях, совершенных нацистскими преступниками.
Приговор Нюрнбергского международного военного трибунала был справедливым приговором. Трибунал осудил гитлеровскую агрессию и сурово наказал главных нацистских военных преступников. Он признал преступными основные организации, учреждения, созданные гитлеровцами для осуществления своих злодейских целей. Несомненной его ошибкой следует считать лишь отказ от признания преступной организацией генерального штаба и верховного командования гитлеровской Германии. Об этом достаточно убедительно говорилось в «особом мнении» советского судьи. Но и при наличии расхождения между судьями по такому отнюдь не маловажному вопросу Международный военный трибунал записал в своем приговоре:
Они были ответственны в большей степени за несчастья и страдания, которые обрушились на миллионы мужчин, женщин и детей. Они опозорили почетную профессию воина. Без их военного руководства агрессивные стремления Гитлера и его нацистских сообщников были бы отвлеченными и бесплодными. Хотя они не составляли группу, подпадающую под определение Устава, они безусловно представляли собой безжалостную военную касту. Современный германский милитаризм расцвел на короткое время при содействии своего последнего союзника – национал-социализма так же или еще лучше, чем в истории прошлых поколений.
«Многие из этих людей сделали насмешкой солдатскую клятву повиновения военным приказам. Когда это в интересах их защиты, они заявляют, что должны были повиноваться. Когда они сталкиваются с ужасными гитлеровскими преступлениями, которые, как это установлено, были общеизвестны для них, они заявляют, что не повиновались. Истина состоит в том, что они активно участвовали в совершении всех этих преступлений или были безмолвными и покорными свидетелями совершавшихся преступлений в более широких и более потрясающих масштабах, чем мир когда-либо имел несчастье знать».
Книга А.И. Полторака рассказывает о недавнем прошлом, но этот яркий, образный и правдивый рассказ очевидца не только напоминает о событиях, уже ставших историей. Факты, о которых рассказывается в книге, позволяют правильно судить о событиях сегодняшнего дня, понять, какие зловещие силы направляют деятельность нынешних идеологов и практиков политики реванша, в какие пучины страданий готовы ввергнуть человечество поджигатели новой войны.
Гитлеризм был порождением германского монополистического капитала. Он пришел к власти, утвердился и смог совершить свои бесчисленные злодеяния в результате поддержки и непосредственной помощи международной империалистической реакции, как и всякий фашизм, он был открытой террористической диктатурой наиболее реакционных империалистических сил. Германские промышленники и финансовые магнаты – круппы, феглеры, левенфельды, шредеры, шницлеры и иже с ними, стояли за спиной эсэсовских бандитов. Эти некоронованные короли капитала не только ставили на службу гитлеровской агрессии весь экономический потенциал Германии. Они непосредственно соучаствовали в самых отвратительных преступлениях гитлеровцев, умерщвляя десятки тысяч людей во время злодейских опытов, доводя миллионы угнанных в рабство до полного физического изнурения и убивая их затем в газовых камерах, отравляющие вещества для которых поставлялись одним из могущественнейших монополистических объединений «ИГ Фарбениндустри».
В книге А.И. Полторака подробно рассказано о преступной деятельности Яльмара Шахта – эмиссара германского монополистического капитала в гитлеровском правительстве, тесно связанного с крупнейшими международными монополиями. Известно, что Нюрнбергский международный трибунал большинством голосов – три против одного (советского судьи) – вынес оправдательный приговор Шахту. Но тысячи и тысячи читателей, в руки которых попадет эта книга, не оправдают его. Они зримо представят себе роль Шахта в развитии нацистского заговора против мира и человечества.
А.И. Полторак разоблачает легенду об «оппозиционности» Шахта гитлеровскому режиму. В период краха гитлеризма перед лицом неизбежности возмездия за совершенные злодеяния о своей «оппозиционности» гитлеризму стали заявлять многие из тех, кто породили его. Одни раньше, как Шахт и участники генеральского путча, другие непосредственно перед катастрофой, как Гиммлер и Геринг. Правда же заключается в том, что, пока детище германского монополистического капитала не заметалось в предсмертных агониях, Шахт, как доверенный представитель этих реакционных сил, верно служил и самому Гитлеру, и нацистскому режиму. В свое время при награждении Шахта так называемым «орденом крови» – золотым значком нацистской партии – было выпущено официально партийное издание, посвященное его заслугам, и там, отнюдь не без основания, утверждалось: «Он смог помогать ей (нацистской партии. – Л.С.) гораздо лучше, чем если бы был официальным членом партии». Неспроста Гитлер, узнав о том, что Шахт заигрывает с оппозиционерами, тот самый Гитлер, который так безжалостно распалился с оппозиционными генералами, сохранил ему жизнь.
Книга А.И. Полторака, конечно, не может заменить специальных исследований, посвященных деятельности Международного военного трибунала. Читатель, ознакомившись с ней, может обратить затем к стенограммам процесса, изданными в Советском Союзе значительным тиражом. Но в то же время нельзя н подчеркнуть, что в этой книге содержаться много того, о чем не говорится, да и не может быть сказано, в стенограммах процесса.
Эта книга очень современна. Она призывает к бдительности в отношении тех, кто, несмотря на предостережения Советского Союза и стран социалистического содружества, нагнетает в настоящее время международную напряженность, подстегивает гонку вооружений, кто не только открыто говорит о неизбежности новой мировой войны, но и всеми доступными средствами пропагандирует необходимость мирового термоядерного конфликта. А вместе с тем она напоминает о неизбежности возмездия любого агрессора.
Судебный процесс над главными военными преступниками гитлеровской Германии навсегда останется грозным предупреждением для темных сил милитаризма. Высокие и благодарные принципы всей деятельности Нюрнбергского международного военного трибунала и его в целом справедливого приговора продолжают служить делу борьбы за мир и безопасность человечества.
Л.Н. Смирнов,Председатель Верховного Суда СССР, бывший помощник главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе
Суд народов
Дорога в Нюрнберг
Июль 1945 года. Дивизия, в которой я служил председателем трибунала, возвращается из-под Праги в родные места. На этот раз путь был легким – солдаты спешили домой.
Меня же ожидало другое. Из Москвы пришло указание немедленно прибыть в Главное управление военных трибуналов. А там объявили, что идет подготовка к созданию Международного военного трибунала для суда над главными преступниками Второй мировой войны, процесс состоится в Нюрнберге ия командируюсь туда в составе советской делегации.
Поспешный выезд в дивизию. Сдача дел. Прощание с фронтовыми друзьями. И снова – в Москву.
Первая встреча с моим новым шефом – генерал-майором юстиции Ионой Тимофеевичем Никитченко. До сих пор я знал его как заместителя председателя Верховного суда СССР. Теперь он – член Международного трибунала. В лаконичной беседе с Никитченко выясняется мое будущее положение в Нюрнберге: мне предстоит ведать советским секретариатом.
Пока оформляются документы, работаю в Военной коллегии Верховного суда СССР. Оформление длится два месяца. Наконец вместе с военным прокурором Василием Самсоновым, тоже командируемым в Нюрнберг, я сажусь в самолет. Мы летели на процесс, который продлится около года и о котором так много будет написано и хорошего, и плохого, и правдивого, и лживого.
Скоро я услышу английского обвинителя Шоукросса, и он будет утверждать, что Нюрнбергский процесс «явится авторитетной и беспристрастной летописью, к которой будущие историки могут обращаться в поисках правды, а будущие политики в поисках предупреждений». Но когда закончится процесс, я прочту книгу его соотечественника публициста Монтгомери Бельджиона, где есть такие слова: «Если бы обыкновенный человек попал с луны в Нюрнберг, то он пришел бы к выводу, что там царит сплошная бессмыслица». В чем заключается эта «бессмыслица», разъяснит затем лорд Хенки. Он назовет Нюрнбергский процесс «опасным прецедентом для будущего» и поспешит заверить, «чем скорее мы покончим с этими процессами, тем будет лучше…».
Я услышу в зале суда исполненное глубокого смысла заявление главного французского обвинителя Шампетье де Риба:
– После предъявления документов, после того, как были заслушаны свидетели, после демонстраций кинофильмов, при просмотре которых даже сами подсудимые содрогнулись от ужаса, никто в мире не сможет утверждать, что лагеря уничтожения, расстрелянные военнопленные, умерщвленные мирные жители, горы трупов, толпы людей, изуродованных душой и телом, газовые камеры и кремационные печи, – что все эти преступления существовали лишь в воображении антинемецки настроенных пропагандистов, этого не сможет утверждать никто.
А пройдет несколько лет, и другие французы с пеной у рта станут опровергать Шампетье де Риба. Я прочту книгу Мориса Бардеша, выливающего не один ушат грязи на Нюрнбергский процесс, пытающегося доказать, что «нельзя слепо, на веру принимать приговор, подписанный победителями…». Я узнаю из газет о поездке по городам и весям Западной Германии французского профессора Поля Рассиньи. Он будет читать лекции, посвященные шестнадцатой годовщине Нюрнбергского процесса, и убеждать немцев в том, что приговор Международного трибунала был вынесен на основе «фальшивых свидетельских показаний и коммунистической травли». Мне придется еще прочитать, что пишут теперь западногерманские реваншисты. У них свое мнение о газовых камерах, о кремационных печах, и, призывая германскую молодежь под черные знамена бундесвера, они представят Шампетье де Риба подлейшим фальсификатором истории и жуликом.
В первые же дни процесса главный американский обвинитель Роберт Джексон, требуя справедливого возмездия гитлеровской клике, скажет:
– Преступления, которые мы стремимся осудить и наказать, столь преднамеренны, злостны и имеют столь разрушительные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их игнорировали, так как она погибнет, если они повторятся.
Но тотчас же после процесса рядовой американец, не успевший еще забыть этих слов Джексона, окажется поставленным в тупик цинично откровенным заявлением сенатора Тафта о том, что «Соединенные Штаты еще долго будут сожалеть о приведении в исполнение Нюрнбергского приговора».
В ночь на 16 октября 1946 года мне доведется быть в здании, где свершится последний акт процесса – гитлеровскую клику поведут на эшафот. Но затем именно этот день объявят в ФРГ «черным днем германской истории», и журнал «Национ Эйропа» прольет слезу по осужденным, напишет, что они «не нарушили ни одного из существующих где-либо законов».
Потом я прочитаю изданные в Америке и немедленно переведенные в Западной Германии мемуары Адольфа Розенберга. В них будет воспроизведено «политическое завещание» этого духовного отца расизма: «Как и другие великие идеи, знавшие победы и поражения, национал-социализм в один прекрасный день будет возрожден в новом поколении, которое создаст в новой форсе империю для немцев… национал-социализм начнет произрастать из здоровых корней и превратился в крепкое дерево, которое даст свои плоды».
Нюрнбергский процесс оказался таким явлением в истории международных отношений, которое на многие десятилетия дало пищу уму и государственных деятелей, и историков, и юристов, и дипломатов.
Среди руин
Итак, из трибунала дивизионного я прибыл в трибунал международный. Было это 1 декабря 1945 года. Весь Нюрнберг, и в особенности его «Гранд-отель», где мы с Василием Самсоновым нашли первый приют, являли собой вавилонское столпотворение. Туда съехались люди всех стран мира, и, конечно, больше всего оказалось корреспондентов.
На следующее утро, пасмурное, по-настоящему осеннее, прежде чем идти во Дворец юстиции, мы решили побродить по городу. Впечатление гнетущее. Нюрнберг лежал в развалинах. Но и в этом его состоянии нетрудно было заметить черты типичного средневекового города. Сохранилась в целости крепостная каменная стена с массивными башнями. Уцелели некоторые дома с островерхими крышами. Очень запутана сеть кривых, узких, без плана построенных улиц.
Все это и многое другое свидетельствовало, что Нюрнберг имел до войны весьма своеобразный и неповторимый вид. Это был город-музей.
Мы идем вдоль реки Пегниц, которая делит его на две почти равные части. Над рекой повисли мосты, сделанные четыреста – пятьсот лет назад. Прямо перед нами среди груды камней и щебня высятся две стройные башни, легкие и ажурные. Это все, что осталось от знаменитой церкви Святого Лоренца.
А вот небольшая площадь на перекрестке двух улиц, и на ней фонтан «Колодезь добродетели». Красивая ограда. Прекрасная скульптура. Когда-то этот фонтан бил множеством струй, но теперь он будто умер, как и окружающие его руины.
Руинам, казалось, не будет конца. И мы задумались над тем, почему именно этот город фашизм сделал своим идеологическим центром. Что он нашел здесь родственного своей звериной идеологии? Почему только в Нюрнберге начиная с двадцатых годов и вплоть до момента крушения гитлеровская партия проводила свои съезды, напоминавшие скорее шабаш ведьм, чем собрание политических деятелей?
Свыше девятисот лет существует Нюрнберг. В XIV–XVI веках здесь била ключом творческая мысль немецкого народа, воплощаясь в замечательные произведения искусства, науки, техники. Тут жили и творили художник Дюрер, скульптор Крафт, поэт и композитор Ганс Сакс. Нюрнберг издавна снабжал всю Европу компасами и измерительными приборами. Наконец, часы, обыкновенные карманные часы, были впервые сделаны здесь Питером Хенлейном. Это не помешало гитлеровцам четыре столетия спустя попытаться в том же самом городе остановить вечный бег времени и повернуть вспять колесо прогресса.
Но история Нюрнберга это не только и даже не столько история развития науки и культуры. В нем жили и действовали не одни лишь мастера, творцы и умельцы. В нем обитали и действовали еще и другие лица – хищные, властолюбивые, жестокие.
В течение столетий Нюрнберг служил символом захватнической политики Священной Римской империи. С 1356 года, согласно Золотой булле Карла IV, каждый новый император свой первый имперский сейм должен был собирать непременно в Нюрнберге. Именно этот город очень любил и жаловал Фридрих I Барбаросса, всю жизнь бредивший мировым господством и бесславно погибший на подступах к Палестине во время третьего Крестового похода.
Гитлеровцы признавали три германские империи. Первой они считали Священную Римскую империю. Второй ту, которую создал в 1871 году Бисмарк. Основателями третьей тысячелетней империи нацисты считали себя. И именно поэтому Нюрнберг стал партийной столицей нацистов…
Раздумывая и рассуждая о всех этих причудах истории, мы незаметно подошли к окраине города. И тут вдруг вспомнилась французская пословица; «когда говорят о волке, видят его хвост». Перед нами открылся вид на так называемое Партейленде – традиционное место фашистских съездов и парадов.
Огромный асфальтированный стадион с трибунами из серого камня. Грубо и тяжело попирая землю, господствуя над всем, высилась махина центральной трибуны, со множеством ступеней и скамей, с черными чашами на крыльях, где в дни фашистских сборищ горел огонь. Словно рассекая эту махину пополам, снизу вверх проходит широкая темно-синяя стрела, указывающая своим острием, где следует искать Гитлера. Отсюда он взирал на марширующие войска и штурмовые отряды. Отсюда под рев осатанелой толпы призывал их к разрушениям чужих очагов, к захватам чужих земель, к кровопролитиям.
В такие дни город содрогался от топота тысяч кованых сапог. А вечерами вспыхивал, как гигантский костер. Дым от факелов застилал небо. Колонны факельщиков с дикими возгласами и визгом проходили по улицам.
Теперь огромный стадион был пуст. Лишь на центральной трибуне стояло несколько дам в темных очках, очевидно американских туристок. Они по очереди влезали на место Гитлера и, щелкая фотоаппаратами, снимали друг друга…
На одной из улиц Нюрнберга – широкой и прямой Фюртштрассе – остался почти невредимым целый квартал зданий, и среди них за безвкусной каменной оградой с овальными выемками, с большими двойными чугунными воротами – массивное четырехэтажное здание с пышным названием Дворец юстиции. Первый его этаж без окон представляет собой крытую галерею с овальными сводами, опирающуюся на короткие, круглые, тяжелые, как бы вросшие в землю колонны. Выше – два этажа, оформленных гладким фасадом. А на четвертом этаже – в нишах статуи каких-то деятелей германской империи. Над входом – четыре больших лепных щита с различными эмблемами.
Редкая полоска деревьев с внутренней стороны ограды отделяет здание от улицы. Если присмотреться внимательно, то и здесь видны следы войны. На многих колоннах выщерблен камень не то очередью крупнокалиберного пулемета, не то осколками снарядов. Пусты некоторые ниши в четвертом этаже, очевидно освобожденные от статуй внезапным ударом взрывной волны.
Рядом с Дворцом юстиции – соединенное с ним переходом другое административное здание. А со двора перпендикулярно внутреннему фасаду вплотную к Дворцу примыкает длинный четырехэтажный тюремный корпус. Тюрьма как тюрьма. Как все тюрьмы мира. Гладкие оштукатуренные стены и маленькие зарешеченные окна, налепленные рядами почти вплотную одно к другому.
Капризная военная судьба пощадила этот мрачный квартал будто специально для того, чтобы здесь могло свершиться самое справедливое в истории человечества правосудие. С ноября 1945 года во Дворце юстиции помещался Международный военный трибунал, разбиравший дело по обвинению главных немецких военных преступников. Здесь же, в тюрьме, они содержались под стражей в ожидании приговора.
…Мы проходим первую цепочку охраны. Это шуцманы, новые немецкие полицейские, одетые в темно-синюю форму. Увидев советских офицеров, они вытягиваются – руки по швам, носки врозь.
Затем нас встречают МР – американские военные полицейские. Предъявляем пропуска.
– О'кэй! – солдат широким жестом приглашает нас пройти.
Перед самым входом в здание – советские часовые. Здесь нас несколько задержала смена караула. Печатая шаг, прошли наши гвардейцы. Рослые, здоровые ребята с орденами и медалями на мундирах, с желтыми и красными нашивками, свидетельствующими о ранениях в боях.
Мы поднимаемся на второй этаж и оказываемся в помещении, отведенном для советской делегации. Но нам, конечно, не терпелось скорее очутиться в зале суда, увидеть тех, кто столько лет терроризировал Европу и мир, тех, по чьей вине миллионы ни в чем не повинных людей сложили свою голову. Как часто во время войны приходилось слышать их имена, всегда сопровождаемые весьма нелестными эпитетами. Теперь к этим многочисленным и очень выразительным эпитетам прибавился последний, предусмотренный уголовными законами всех стран мира, – подсудимые.
В судебном зале
Наконец мы в зале, где заседает Международный военный трибунал. Первое, что бросается в глаза, – отсутствие дневного света: окна наглухо зашторены.
А мне почему-то хотелось, чтобы этот зал заливали веселые, солнечные лучи и через широкие окна, нарушая суровую размеренность судебной процедуры, сюда врывались бы многообразные звуки улицы. Пусть преступники чувствуют, что жизнь вопреки их стараниям не прекратилась, что она прекрасна.
Зал отделан темно-зеленым мрамором. На стенах барельефы – символы правосудия… Судьи и все присутствующие внимательно слушают прокуроров, свидетелей, подсудимых и их защитников. Каждые 25 минут меняются стенографистки (к концу дня должна быть готова полная стенограмма судебного заседания на четырех языках). Кропотливо трудятся фотографы и кинооператоры многих стран мира. Чтобы не нарушать в зале тишину и торжественность заседаний, съемки производятся через специально проделанные в стенах застекленные отверстия.
Один из подъездов Дворца юстиции. На караул встают советские солдаты.
На возвышении – длинный стол для судей. За ним слева направо разместились генерал-майор юстиции И.Т. Никитченко, подполковник юстиции А.Ф. Волчков, англичане лорд Биркетт и лорд Лоуренс, американцы Биддл и Паркер, французы Доннедье де Вабр и Робер Фалько. Ниже судейского стола, параллельно ему, расположился секретариат. Еще ниже – стенографистки.
Справа – большие столы сотрудников прокуратуры четырех держав, руководимых главными обвинителями: от СССР – государственным советником юстиции второго класса Р.А. Руденко, в то время занимавшим пост прокурора Украинской ССР; от США – Робертом Джексоном, членом Верховного суда; от Великобритании – Хартли Шоукроссом, генеральным прокурором Англии; от Франции – Франсуа де Ментоном, членом французского правительства. Позади обвинителей – места для представителей прессы.
Зал суда.
Слева от входа – скамья подсудимых. Первый ряд ее занимают Герман Геринг, Иоахим фон Риббентроп, Рудольф Гесс, Вильгельм Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус Штрейхер, Вальтер Функ, Яльмар Шахт. Во втором ряду – Карл Дениц, Эрих Редер, Бальдур фон Ширах, Фриц Заукель, Альфред Йодль, Франц фон Папен, Артур Зейсс-Инкварт, Альберт Шпеер, Константин фон Нейрат, Ганс Фриче. Перед каждым судебным заседанием их доставляют сюда по одному. Под усиленным конвоем они следуют через новый подземный ход, соединяющий тюрьму с Дворцом юстиции, и поднимаются в пустой еще зал. Бесшумно открывается узкая дубовая дверь, и подсудимые, как злые духи, будто возникают прямо из стены. Одни здороваются друг с другом. Другие озлобленно, по-волчьи шмыгают на свои места, ни на кого не глядя.
Скамью подсудимых окружают солдаты американской военной полиции. Впереди нее на специально отведенных местах – одетые в мантии адвокаты.
На втором этаже зала – балкон для гостей…
В этой обстановке мне предстояло работать без малого год. Судебный процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Трибунал провел 403 судебных заседания…
В первый же день процесса в кратком вступительном слове о правовых основах деятельности международного военного трибунала председательствующий заявил:
– Процесс, который должен теперь начаться, является единственным в своем роде в истории мировой юриспруденции, и он имеет величайшее общественное значение для миллионов людей на земном шаре. По этой причине на тех, кто принимает в нем какое-либо участие, лежит огромная ответственность, и они должны честно и добросовестно выполнять свои обязанности без какого-либо попустительства, сообразно со священными принципами закона и справедливости.
Мы еще увидим, насколько вняли этому привязывания некоторые участники процесса, как отнеслась к нему защита, как вели себя многочисленные и очень не одинаковые по своему положению и политическим взглядам свидетели. А пока мне хотелось бы держать внимание читателя на скамье подсудимых.
Нацистские главари стараются держаться непринужденно. Они переговариваются между собой, пишут записки адвокатам, делают довольно пространные записки для себя. Особенно усердствует Риббентроп. Он буквально завалил защитника своими «инструкциями» и, пожалуй, с самого начала процесса прямо в зале суда стал сочинять «мемуары». Казалось бы, зачем? Ни один еще из буржуазных государственных деятелей не получал возможности столь обстоятельно поведать миру о своей жизни и своих делах, как это довелось в Нюрнберге бывшим членам правительства гитлеровской Германии. Стенографический отчет процесса явился уникальным собранием правдивых биографий нацистских политиков. Но это противоречило их желаниям и намерениям. Нет, не такие «мемуары» хотелось им оставить для истории. И каждый старался по-своему. Одни сами взялись за перо. Другие попытались использовать в этих целях перо многочисленных агентов буржуазной прессы.
Уже в первые дни процесса я заметил, что с подсудимыми часто беседует молодой американский офицер с повязкой ISO[2]. То был судебный психиатр доктор Джильберт. В Нюрнберге этому человеку завидовали журналисты всего мира. Как все они, Джильберт мог слушать и наблюдать происходящее в зале суда. Как никто из них, он имел возможность без всяких ограничений в любое время общаться с подсудимыми и в зале суда, и в камерах тюрьмы, и публично, и наедине.
Доктор Джильберт хорошо владел немецким языком, который, как рассказывали, был для него родным. Это еще больше расширяло возможности. Он знал многое, чего не знали другие. Журналисты буквально охотились за ним, надеясь выудить что-нибудь сенсационное для прессы. Но Джильберт умел держать язык за зубами. Перед самым концом процесса он сообщил мне, что заканчивает обработку своих дневников и несколько западных издательств очень торопят его с этим. Ему очень хотелось, чтобы и советские издательства приобрели эту рукопись. Джильберт передал мне первую ее половину для ознакомления. А полностью его книгу «The Nuremberg diary»[3] я прочел позже. Она была издана в США и во многих европейских странах. По-своему это очень любопытный документ, особенно для участников процесса. Джильберт дополняет общую картину увиденного в Нюрнберге рядом ярких деталей, о которых подсудимые поведали ему в частных беседах. Это как бы ежедневный комментарий самих подсудимых ко всем сколько-нибудь значительным событиям процесса, в какой-то степени объясняющий их собственное поведение в суде. Джильберт оказался тонким наблюдателем.
Галерею для гостей всегда переполняли офицеры союзных армий, преимущественно американской. Приезжали сюда и тогдашний военный министр США Паттерсон, и бывший военный министр Англии Хор-Белиша, и лорд-канцлер Англии Джоуит, и председатель английской комиссии по расследованию военных преступлений лорд Райт, и лорд Моэм – брат писателя Соммерсета Моэма, и известные публицисты Гарольд Никольсон, Уолтер Липпман, Джозеф Олсоп.
Как-то во время обеда у судей меня познакомили с одним толстяком, очень живым и экспансивным. То был Фиорелло Лагардиа, губернатор Нью-Йорка.
Не раз в зале суда появлялись весьма расфранченные дамы, каким-то образом получившие пропуска на длительный срок. Некоторые из них – жены подсудимых, другие – супруги крупных государственных деятелей западных стран. Однажды в перерыве между заседаниями я очутился рядом с двумя такими дамами. В тот день обвинитель предъявлял доказательства, касавшиеся немецко-фашистской агрессии против Австрии, но не успел закончить своих объяснений. Дамы были огорчены этим обстоятельством. Одна из них спросила другую, придет ли она на следующий день. Ответ был умилительным:
– Конечно приду, моя милая, ведь я так хочу узнать, чем же закончилась эта агрессия против Австрии.
Даме было под пятьдесят, но она, увы, как-то не успела вовремя узнать, каким это образом Австрия вдруг перестала существовать…
Говорили, что в Нюрнберг приезжала жена Рудольфа Гесса. Проживая во время процесса в американской зоне, она только и делала, что рассказывала всем о «великих достоинствах» своего мужа и своем намерении издать собственный дневник.
Под стать фрау Гесс была и жена Гиммлера. Эта тоже не пропускала ни одной возможности поговорить с иностранными корреспондентами и поведать им, что она «считает своего мужа великим немецким вождем».
В той же шеренге шествовала жена Квислинга, которая громогласно объявила, что ее муж «мученик, умерший за нордическую свободу».
Но оставим в стороне дам. Не они в конечном счете определяли лицо публики на галерее для гостей и в кулуарах Дворца юстиции. И там и здесь куда больше было «деловых» людей.
Вот ведут беседу два человека. Один, на вид лет пятидесяти, весьма респектабельный джентльмен небольшого роста – представитель какого-то издательства. Второй, в черной мантии, – адвокат Альфреда Розенберга, высокий и массивный Тома. Доктор Серватиус – адвокат Заукеля, наблюдая за собеседниками со стороны, понимающе качает головой. Несколько позже он жаловался, что вся защита подсудимых, и без того перегруженная по горло, почти ежедневно должна была вести переговоры с заполонившими Нюрнберг американскими и английскими издателями, решившими, что можно неплохо заработать на публикации мемуаров подсудимых. И результаты этих переговоров проявились незамедлительно: сразу же по окончании процесса в Америке были опубликованы мемуары Розенберга и Риббентропа, написанные в Нюрнбергской тюрьме.
Своеобразный колорит вносят своим появлением в коридорах Дворца юстиции пленные эсэсовцы. Их использовали для всякого рода подсобных работ: перетаскивания мебели, уборки помещения. Этих эсэсовцев каждое утро привозили сюда в крытой машине. Потом они как-то сразу исчезли. Это совпало с появлением в длинных коридорах Дворца юстиции дзотов, в которых постоянно дежурили американские солдаты, вооруженные пулеметами и автоматами. Были также установлены зенитные посты на крыше, и вся американская охрана приведена в боевую готовность.
При случае спрашиваю начальника охраны полковника Эндрюса, кто угрожает Международному трибуналу. Оказывается, пленные эсэсовцы. Они будто бы разбежались из лагеря, захватили оружие и идут на Нюрнберг. Относительно целей этого похода циркулировали различные слухи. Одни утверждали, что эсэсовцы решили силой освободить гитлеровских главарей. Другие доказывали, что они собираются линчевать их за проигрыш войны. Вскоре, однако, выяснилось, что все эти слухи сильно преувеличены. Дзоты были убраны. Но корреспонденты буржуазных газет ликовали: им представилась счастливая возможность сообщить в свои газеты, журналы и агентства еще одну сенсацию из Нюрнберга.
Нельзя забыть и такой эпизод. Однажды утром я вошел в зал суда вместе с Л.Р. Шейниным. До начала заседания осталось минут двадцать. Мы стояли недалеко от скамьи подсудимых и разговаривали. Ввели фон Папена, и я заметил, как он вдруг остановился, встретившись взглядом с моим собеседником. Лев Романович тоже всматривался в Папена с каким-то особым выражением. Когда этот зрительный поединок кончился и Папен сел на свое место, а мы с Львом Романовичем вышли в коридор, мне, естественно, захотелось узнать, чем обусловлен их взаимный повышенный интерес друг к другу.
– Ничего особенного, – усмехнулся Шейнин. – Просто мы старые знакомые.
И он рассказал мне, как в 1942 году был командирован советским правительством в Турцию в связи с делом о покушении на Папена. По этому делу без всяких оснований привлекались к суду советские граждане Павлов и Корнилов. Льву Романовичу предстояло возглавить их защиту. Но перед тем турецкое МИД устроило хитрую шутку: Л.Р. Шейнина пригласили вместе с нашим тогдашним послом в Анкаре С.А. Виноградовым на спортивный праздник и усадили их рядом с Папеном. Там-то и состоялось первое «знакомство» нацистского дипломата и разведчика с видным советским следователем и литератором. А теперь вот в Нюрнберге они встретились вновь, и Папен, конечно, узнал Шейнина.
В богатой контрастами картине Дворца юстиции особое место занимали переводчики. Теперь мы уже привыкли к тому, что во время международных встреч и конгрессов, где дискуссии ведутся на многих языках, ораторы не прерывают своих речей для перевода. Перевод осуществляется синхронно: с помощью радиоаппаратуры немцы и болгары, французы и арабы, англичане и итальянцы сразу слышат на доступных им языках любое высказывание. Но тогда, в Нюрнберге, такая система перевода была в новинку, особенно для наших советских переводчиков. С микрофоном они работали впервые, и можно себе представить, как все мы волновались, имея в виду, какое огромное значение придается в судебном разбирательстве буквально каждому слову. Однако волнения эти оказались напрасными. Наши ребята (я называю их так потому, что почти все переводчики были еще в комсомольском возрасте) не ударили в грязь лицом.
Технически синхронный перевод был организован так. Рядом со скамьей подсудимых стояли четыре стеклянные кабины. В них размещались по три переводчика. Каждая такая группа переводила с трех языков на свой родной – четвертый. Соответственно переводческая часть аппарата советской делегации включала специалистов по английскому, французскому и немецкому языкам, а все они вместе переводили на русский. Говорит, например, один из защитников (разумеется, по-немецки) – микрофон в руках Жени Гофмана. Председательствующий неожиданно прерывает адвоката вопросом. Женя передает микрофон Тане Рузской. Вопрос лорда Лоуренса переведен. Теперь должен последовать ответ защитника, и микрофон снова возвращается к Гофману…
Но работа нашего «переводческого корпуса» не ограничивалась только этим. Стенограмму перевода надо было затем тщательно отредактировать, сличив ее с магнитозаписями, где русская речь чередовалась с английской, французской и немецкой. А кроме того, требовалось еще ежедневно переводить большое количество немецких, английских и французских документов, поступавших в распоряжение советской делегации. Да, дел оказалось очень много, и я благодарил судьбу за то, что наши переводчики были не только достаточно квалифицированными (большинство из них имело специальное языковое образование), но также и физически крепкими и выносливыми.
Сегодня, когда я пишу эти строки, мне очень хочется вспомнить добрым словом Нелли Топуридзе и Тамару Назарову, Сережу Дорофеева и Машу Соболеву, Лизу Стенину и Таню Ступникову, Валю Валицкую и Лену Войтову. В их добросовестном и квалифицированном труде – немалая доля успеха Нюрнбергского процесса. Им очень обязаны ныне многие советские историки и экономисты, философы и юристы, имеющие возможность пользоваться на родном языке богатыми архивами Нюрнбергского процесса.
А как не вспомнить Тамару Прут, блестяще владевшую тремя языками. Нюрнберг – не просто эпизод в ее жизни. Многие годы эта женщина выступала над главными военными преступниками.
Среди переводчиков у нас были и такие, чья деятельность выходила за рамки обычной работы с текстами и у микрофона. Скажем, Олег Трояновский и Энвер Мамедов номинально считались только переводчиками, и они действительно оказали большую помощь нашей делегации своим участием в переводах. Но у них имелся еще и опыт дипломатической работы, который тоже, конечно, не остался втуне.
Летом 1945 года, когда в Лондоне на четырехсторонней конференции разрабатывалось соглашение о наказании военных преступников и Устав Международного военного трибунала, О.А. Трояновский впервые вступил в деловые контакты с И.Т. Никитченко и А.Н. Трайниным. Он был прикомандирован к ним в помощь из аппарата нашего лондонского посольства и сразу зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. В этом еще молодом тогда помощнике отличное знание иностранных языков счастливо сочеталось с эрудицией в области международных отношений, большой культурой, личным обаянием и исключительным тактом. Все это, вместе взятое, очень способствовало успешному решению сложных задач, стоявших перед советской делегацией. Иона Тимофеевич Никитченко рассказывал мне, как много полезных советов получал он в те дни от Олега Александровича Трояновского. Неудивительно, что впоследствии, оказавшись судьей в Международном трибунале, И.Т. Никитченко не пожалел трудов, чтобы добиться от МИД СССР распоряжения об откомандировании О.А. Трояновского в Нюрнберг. Здесь Олег сидел за судейским столом, обеспечивая контакт советских судей Международного трибунала с судьями других держав. Он же участвовал и во всех закрытых судебных заседаниях.
Э.Н. Мамедов прибыл на процесс из советского посольства в Риме и тоже, как говорится, очень пришелся ко двору. Советские судьи и обвинители высоко ценили его как переводчика, но в то же время привлекали к поручениям и совсем иного характера, требовавшим от исполнителя определенной политической зрелости. Я еще расскажу о таком интересном эпизоде процесса, как допрос германского фельдмаршала Паулюса, об обстоятельствах его прибытия в Нюрнберг. Здесь же упомяну только, что, прежде чем обеспечить выступление Паулюса в суде, следовало преодолеть ряд организационных трудностей. В немалой степени этому содействовал Энвер Мамедов.
Не могу не назвать здесь также Тамару Соловьеву и Инну Кулаковскую, Костю Цуринова и Таню Рузскую. Когда на окончательно выправленной стенограмме стояла подпись Кулаковской или Соловьевой, можно было надеяться, что будущий историк, изучающий Нюрнбергский архив, не найдет повода для претензии. Переводчиков у нас было гораздо меньше, чем у делегаций других стран. Работы же для них оказалось, пожалуй, даже больше, чем у наших партнеров по трибуналу. И здесь все мы имели возможность лишний раз на практике убедиться в том, что такое новое, советское, отношение к труду.
Князь Васильчиков, состоявший на службе у американцев, с недоумением спрашивал наших синхронных переводчиков:
– Слушайте, господа, зачем вы еще переводите документы? Вам ведь за это не платят.
Синхронные переводчики, тратившие очень много энергии на выполнение своих прямых обязанностей, действительно освобождались от всякого иного перевода. Однако Костя Цуринов и Тамара Соловьева, Инна Кулаковская и Таня Рузская не могли оставаться безразличными, когда их товарищи – «документалисты» Тамара Назарова или Лена Войтова – сгибались под тяжестью своей нагрузки.
Наше неписаное правило – товарищеская взаимопомощь – ярко проявлялась и в другом. Как я уже говорил, в кабинах переводчиков каждой страны всегда сидело по три человека. Речи судебных ораторов порой продолжались в течение часа и даже более того. В этих случаях переводчик с соответствующего языка работал с предельным напряжением, а остальные двое могли слушать, так сказать, вполуха, только чтобы не пропустить реплику на «своем» языке. Переводчики – американцы, англичане и французы в подобной ситуации обычно читали какую-нибудь занимательную книгу или просто отдыхали. Наши же ребята почти всегда все вместе слушали оратора и в полную меру своих возможностей помогали товарищу, ведущему перевод.
При синхронном переводе даже самый опытный переводчик непременно отстает от оратора. Переводя конец только что произнесенной фразы, он уже слушает и запоминает начало следующей. Если при этом в речи дается длинный перечень имен, названий, цифр, возникают дополнительные трудности. И вот здесь-то у наших переводчиков всегда приходили на выручку товарищи по смене. Они обычно записывали все цифры и названия на листе бумаги, лежавшем перед тем, кто вел перевод, и тот, дойдя до нужного места, читал эти записи, не напрягая излишне память. Это не только гарантировало от ошибок, но и обеспечивало полную связность перевода.
Справедливости ради не могу не заметить, что такая форма товарищеской взаимопомощи вскоре получила распространение и среди переводчиков других делегаций. Вот оно, пусть хоть маленькое, но все же торжество нашей морали!
Работать в Нюрнберге в качестве переводчиков или даже архивариусов стремились многие советские историки, экономисты, международники, юристы…
Переводчик – Костя Цуринов – большой знаток испанской литературы – в ходе Нюрнбергского процесса почти переквалифицировался в юриста. Он был назначен секретарем советской делегации.
Когда мы проводили на мирную конференцию в Париж Олега Трояновского, его сменил за судейским столом Берри Купер. Это был переводчик особого рода. Случилось так, что английский язык стал для него родным. В переводе на английский ему не было равных в нашей делегации. Но с переводами на русский он чувствовал себя не очень уверенно и частенько прибегал к помощи товарищей. Зато и сам помогал друзьям всем, чем мог. Это был на редкость добрый и благожелательный человек, щедро наделенный от природы чувством юмора.
С сердечной теплотой я вспоминаю также Таню Гиляревскую, Лену Дмитриеву и Нину Орлову. В течение всего процесса они работали с Р.А. Руденко и И.Т. Никитченко. Наши коллеги – обвинители других стран, – прощаясь с ними, благодарили этих тружениц за то, что было сделано каждой из них для установления деловых отношений между руководителями делегаций.
Были среди переводчиков и такие, которые пришли в зал суда прямо из концлагерей. Они тоже относились к своей работе самозабвенно. Для курьеза скажу, что один из них, обычно заикавшийся, сразу исцелялся от своего недуга, как только входил в переводческую кабину.
У делегаций США, Англии и Франции состояло на службе значительное количество русских эмигрантов. Были среди них и такие, которые упорно сохраняли к Советскому Союзу враждебное отношение. Но большинство все-таки явно симпатизировали нам. Многие из этих людей покинули родные места еще в детские годы. Находясь за границей, в массе своей они бедствовали. Помнилась война с Германией 1914–1918 годов, полная неудач для царской России. И вдруг четверть века спустя, когда германские милитаристы вновь оказались на русской земле, все обернулось по-иному – война закончилась блистательной победой русского оружия. Уже от одного этого у вчерашних белоэмигрантов не могло не заговорить чувство национальной гордости, и они, порой безотчетно, потянулись тогда к нам, советским людям.
Как-то раз во время очередного заседания ко мне подошел один из секретарей советской делегации майор Львов – мой старый друг, военный прокурор, с которым мы вместе начинали свой фронтовой путь. Он сообщил, что в коридоре меня дожидается какой-то сотрудник английской делегации. Я спустился вниз и увидел пожилого человека, небогато одетого. Лет ему было под шестьдесят.
– Чем могу быть полезен? – обратился я к нему по-английски.
– Господин майор, – ответил он по-русски, – позвольте мне говорить с вами на родном языке.
После этого незнакомец представился. За точность не ручаюсь, но, кажется, фамилия его была Строганов. Он эмигрировал из России после революции. До того был не то членом правления, не то просто чиновником Российского общества пароходства и торговли. Я сразу не понял, что это такое. Строганов разъяснил – Российское общество пароходства и торговли. Потом рассказал мне, что родился, жил и служил до революции в Одессе.
Оказавшийся рядом со мной Аркадий Львов не удержался от восклицания:
– Так вы же с майором земляки!
Это была не самая удачная реплика. Строганов забросал меня вопросами. Чувствовалось, что он сохранил глубокое уважение к своей Родине, а к Одессе – нежную сентиментальную любовь. В глазах его появились слезы. Старого одессита интересовало все: велики ли в городе разрушения, цел ли Николаевский бульвар, гостиница «Лондонская», как Дюк? Ну и, конечно, осведомился о состоянии Оперного театра, в отношении которого одесские аборигены десятки лет спорили, первый ли он по красоте и изяществу в мире или только в Европе. Некоторые снисходительно соглашались с тем, что в Вене построили такой же театр, но, разумеется, скопировав с одесского. Это спор, начавшийся где-то в XIX веке, прошел через две революции и несколько войн, но острота его не уменьшилась.
Не скрою, мне приятно было поболтать со стариком. Они ведь очень занятные, эти одесские старики. Недаром о них с такой симпатией писали Куприн, Бабель, Ильф и Петров. Но времени у меня было в обрез, и я постарался переключить нашу беседу на деловой тон:
– Так чем же я все-таки обязан вашему вниманию, господин Строганов?
– Господин майор, я очень прошу вас представить меня его превосходительству генералу Никитченко.
Майор Львов чуть было не прыснул от такой торжественной формы обращения, но сдержал себя и тактично заметил:
– Господин Строганов, а ведь можно и без «превосходительства».
Старик улыбнулся, взглянул поочередно на наc обоих и не без лукавства отпарировал:
– А ведь я знаю, господа, что в России все это отменено. И сам считал, что это было сделано правильно. Но покорнейше прошу меня извинить: теперь самое время восстановить эти слова. После всего, что случилось, молодые люди, после таких побед русской армии я не могу обращаться к русскому генералу без приставки «ваше превосходительство».
Я обещал Строганову посодействовать его знакомству с Никитченко, хотя так и не мог понять, о чем он хочет говорить с весьма несловоохотливым Ионой Тимофеевичем. Старик был очень доволен и заверил, что впредь мы можем полагаться на него, он всегда готов помочь нам.
– И вообще, господа, – закончил он, – я ведь знаю местную русскую эмиграцию. Можете к ней относиться с доверием. Люди настроены к вам очень дружески.
Скоро мы действительно убедились в этом. Многие из эмигрантов старались по мере сил быть полезными нам.
Помню, однажды мне пришлось вступить в спор с начальником отдела переводов генерального секретариата полковником Достером. Нами с некоторым опозданием был сдан в перевод с русского на английский язык текст предстоящей речи помощника главного советского обвинителя Л.Н. Смирнова. Одновременно подоспела к переводу речь другого советского обвинителя – Л.Р. Шейнина. Полковник Достер отказался обеспечить своевременный перевод. Мы и сами понимали, что ставим переводчиков в тяжелое положение, но продолжали добиваться своего. Чтобы убедить нас в невозможности своевременно перевести обе речи, полковник Достер повел меня и Шейнина в русскую секцию бюро переводов, целиком состоявшую из эмигрантов. Каково же было удивление Достера, когда возглавлявшая эту секцию княгиня Татьяна Владимировна Трубецкая заявила ему:
– Милый полковник, вы, конечно, правы. Но на этот раз позвольте нам, русским, самим договориться с русскими.
Нас же она заверила, что работа будет выполнена в срок. И слово свое сдержала.
В памяти остались и некоторые другие встречи с эмигрантами.
Хочется сказать, в частности, о Льве Толстом – внучатом племяннике великого писателя. Как сейчас, вижу перед собой его худощавое смуглое лицо человека лет тридцати – тридцати трех. Работал он переводчиком во французской делегации и, возвратившись однажды из поездки в Париж, привез советским писателям, работавшим на процессе, сердечное приветствие от И.А. Бунина. Бунин прислал также свежий номер русского эмигрантского журнала, в котором был напечатан его рассказ «Чистый понедельник». Об этом рассказе много говорили и спорили. Но в одном соглашались все: от начала до конца его пронизывало чувство беспредельной тоски по Родине и нежнейшей любви к ней.
Не могу я забыть и того, как пришла к нам группа русских переводчиков из западных делегаций с просьбой показать им документальные фильмы о преступлениях нацистов на советской территории. Такой киносеанс был организован, и трудно описать, что на нем происходило. Плакали поголовно все – мужчины и женщины, молодые и старые. Волнение зрителей было непередаваемым. И тогда мне невольно вспомнились слова Дантона, брошенные в ответ на предложение эмигрировать из Франции, ибо гнев Робеспьера скоро настигнет и его:
– Нельзя унести Родину на каблуках своих башмаков.
Да, действительно нельзя!
Каждый день процесса был по-своему богат впечатлениями. Не случайно в нюрнбергский Дворец юстиции стекалось тогда такое количество писателей и публицистов. Нашу советскую прессу представляли Константин Федин, Леонид Леонов, Илья Эренбург, Всеволод Иванов, Всеволод Вишневский, Борис Полевой, Лев Шейнин, художники Кукрыниксы, Борис Ефимов, Николай Жуков и др.
«Весьма важные персоны»
Давно замечено, что в разных странах внутреннее расположение тюрем – камеры, их оборудование – и даже режим дня имеют много общего. Это дало когда-то повод Илье Эренбургу остроумно заметить устами Хулио Хуренито, что палка, в чьих бы руках она ни оказалась, не перестанет быть палкой; ни мандолиной, ни японским веером она стать не может.
Нюрнбергская тюрьма не являлась исключением. Это многоэтажное здание нафаршировано камерами размером 10 на 13 футов. В каждой камере на высоте среднего человеческого роста – окно в тюремный двор. В дверях – другое окошко, постоянно открытое (через него передавалась подсудимому пища и осуществлялось наблюдение). В углу – туалет.
Весь мебельный «гарнитур» составляют койка, жесткое кресло и вправленный в пол стол. На столе разрешалось иметь карандаши, бумагу, семейные фотографии, табак и туалетные принадлежности. Все другое изымалось.
Когда подсудимый ложился на койку, его голова и руки должны были всегда оставаться на виду. Всякий, кто пытался нарушить это правило, вскоре чувствовал руку часового: его будили.
Ежедневно заключенных брил безопасной бритвой проверенный парикмахер из военнопленных. Бритье тоже проходило под наблюдением охраны.
Электропроводка и освещение были сделаны так, что свет в камеры подавался снаружи. Это исключало возможность самоубийства током. Очки выдавались только на определенное время и на ночь обязательно отбирались.
Один-два раза в неделю заключенные могли ожидать обыска. В таких случаях они становились в угол, а военная полиция перетряхивала буквально всю камеру. Еженедельно полагалась баня, но перед ней непременно нужно было пройти через специальное помещение для осмотра.
Я часто видел начальника тюрьмы полковника Эндрюса. Высокий, широкоплечий, представительный, в очках, придававших его строгому лицу еще большую официальность, он проявлял много забот о подсудимых, дабы каждый из них чувствовал себя настолько хорошо, чтобы не пропускать заседаний суда. Эндрюс производил впечатление настоящего служаки, понимавшего, что под его надзором находятся не обычные уголовники, а заключенные особого рода. Как-то он мне сказал, показывая на скамью подсудимых: «Vip». Я сразу не понял его, и он разъяснил:
– Very important persons [4].
Эти «Vip» не однажды жаловались на него. Самое курьезное заключалось в том, что, даже сидя на скамье подсудимых, многие из них по-прежнему претенциозно рассматривали себя государственными деятелями. Их возмущали любые ограничения. Шахт, например, гневно жаловался на то, что ему не разрешают встречаться в тюрьме с такими джентльменами, как Папен и Нейрат (остальных он считал преступными каторжниками, которым давно место на галерах, и потому его даже устраивало, что видится с ними не очень часто).
Но больше всех и наиболее шумно выражал свои протесты Герман Геринг. В отношении его полковник Эндрюс проявлял особую заботу и предосторожность. А вот это-то «свободолюбивой» натуре Германа Геринга как раз и не нравилось.
На одном из заседаний генерального секретариата начальник тюрьмы давал объяснение по поводу очередной жалобы на него заключенных. Эндрюс пожаловался на Геринга:
– Понимаете, этот толстый Герман все-таки неблагодарная свинья. Я же его избавил от пагубной привычки целыми пригоршнями поедать наркотические таблетки. Ведь когда он прибыл ко мне, никак не хотел расставаться с чемоданом, наполненным наркотиками. Я отобрал. Он ругался, но вынужден был примириться. Я сделал из него человека и спас от верной и позорной для мужчины смерти…
В первые дни своего пребывания в тюрьме Геринг пытался убедить Эндрюса в том, что хотя среди подсудимых он действительно «первый человек», но это еще вовсе не значит, будто он самый опасный. Когда эта линия защиты ничего не дала, «толстый Герман» избрал другую, с его точки зрения, более весомую: как-никак процесс в Нюрнберге – исторический, и вряд ли, мол, чиновники вроде полковника Эндрюса захотят, чтобы их имя ассоциировалось потом с оскорблениями в отношении больших государственных деятелей, оказавшихся, увы, в беспомощном и безответном положении. Эндрюс рассказывал, что однажды Геринг, обращаясь к нему, воскликнул с явно напускным пафосом:
– Не забывайте, что вы имеете здесь дело с историческими фигурами. Правильно или неправильно мы поступали, но мы исторические личности, а вы никто!
Полковник Эндрюс держался иного мнения, а потому довольно легко сносил такие истерические вспышки своих клиентов. Эндрюса не столько обижало, сколько смешило то, что бывший рейхсмаршал пугает его судьбой тюремщиков Наполеона.
Никто в Германии, даже среди ближайшего окружения Германа Геринга, не подозревал, что он питает интерес к истории и литературе. Мы еще увидим, как загружен был день этого «второго человека в империи». Но, видно, Геринг давно готовил себя к положению «первого человека», в связи с чем его очень волновала карьера Бонапарта. На изучение жизни и печального конца императора он находил время. Наполеона из него явно не вышло. Для Геринга не нашлось даже какого-нибудь экзотического острова, подобного тому, где доживал остаток дней своих «великий корсиканец». Это тоже оказалось лишь глупой мечтой. Геринга посадили в обычную уголовную тюрьму, в обычную одиночную камеру с парашей, под надзор не очень посвященной в историю американской стражи. Ему не оставалось ничего иного, как попытаться своими силами восполнить этот пробел в образовании американцев.
Лондон. 8 августа 1945 года. Подписание Соглашения об учреждении Международного военного трибунала. На снимке – вверху (слева направо): профессор А.Н. Трайнин, И.Т. Никитченко (СССР); внизу – Джоуитт (Великобритания); Р. Джексон (США); Р. Фалько (Франция).
– Не забывайте, полковник, – поучал он Эндрюса, – о судьбе тюремщика Наполеона. Он позволял себе дурное обращение с пленником. Я хотел бы, чтобы вы знали, что ему пришлось потом написать в свое оправдание два тома воспоминаний.
Но Эндрюс очень хладнокровно выслушивал такие тирады…
Припоминается и еще одно заседание генерального секретариата, на котором в числе прочих вопросов рассматривалась очередная жалоба некоторых заключенных Нюрнбергской тюрьмы. На этот раз жаловались немецкие фельдмаршалы и генералы. Человек пятнадцать – двадцать. В их числе: Кейтель, Йодль, Рунштедт, Гудериан, Гальдер.
Дорога правосудия открыта!
Председатель Международного военного трибунала лорд Д. Лоренс направляется во Дворец юстиции.
Международный военный трибунал (слева направо): А.Ф. Волчков, И.Т. Никитченко (СССР); Н. Биректт, Д. Лоренс (Великобритания); Ф. Биддл, Д. Паркер (США); Доннедье де Вабр (Франция).
Главное, что их возмущало, это уборка камер. Каждое утро один из немецких военнопленных солдат передавал господам фельдмаршалам обыкновенную метлу, которой они самолично должны были подмести пол своей камеры.
Жалуясь на столь оскорбительное к ним отношение, германские фельдмаршалы и генералы обильно цитировали Женевскую конвенцию 1929 года о режиме для военнопленных. Они упорно не хотели считаться с тем, что являются уже не военнопленными, а военными преступниками, что режим их содержания определяется не Женевской конвенцией, а уголовным кодексом.
Полковник Эндрюс отозвался по поводу этой жалобы с присущей ему лаконичностью.
– Дьявол цитирует священное писание…
Каждый день подсудимые совершали прогулки в тюремном дворе. Во время прогулок им разрешалось разговаривать. Но не все пользовались этим правом. Некоторые предпочитали держаться особняком. Многие открыто сторонились Штрейхера. Отношение к нему других подсудимых с предельной ясностью выразил Функ:
– Я достаточно наказан уже тем, что вынужден сидеть рядом со Штрейхером на скамье подсудимых.
Довольно странные вещи происходили иногда в тюрьме. 26 декабря 1945 года американская администрация устроила для бывших национал-социалистских руководителей рождественское богослужение. Английское радио посвятило этому специальную передачу, в деталях сообщив своим слушателям, как все протекало.
Оказывается, еще накануне рождества из двух или трех тюремных камер было оборудовано нечто напоминающее церковь. Каждый подсудимый приходил туда со своим охранником. Разговаривать не разрешалось. Если охрана замечала, что кто-то не столько произносит слова молитвы, сколько болтает с другими подсудимыми, к «нарушителю» применялись соответствующие меры.
Какое отвратительное зрелище, какое фарисейство! Матерые преступники смиренно «беседуют с богом». Даже Фриче, опубликовавший впоследствии свои мемуары, пишет, что «слышать это было страшно».
Подсудимым без ограничения давали из тюремной библиотеки книги. Риббентроп читал мало и преимущественно Жюля Верна. Он верил, что ему еще удастся выйти из этой тюрьмы: ведь в романах Жюля Верна бывали и более фантастические ситуации. Садист и развратник, один из теоретиков и практиков антисемитизма, Штрейхер увлекался немецкой поэзией. Бальдур фон Ширах, бывший руководитель гитлеровской молодежи, переводил на немецкий язык стихи Теннисона. Говорили, что у него неплохо получалось, и в тюрьме он, видимо, искренне пожалел, что не посвятил себя этому целиком. Франц фон Папен, бывший вице-канцлер, углубился в религиозную литературу; старый диверсант и политический авантюрист на склоне лет из своей тесной тюремной камеры простирал руки к богу. Бывший министр внутренних дел Фрик не читал ничего, он любил поесть. Вскоре ему уже не годились его пиджаки – так располнел. Позже Эндрюс рассказывал мне, что уже через пять минут после объявления Фрику смертного приговора он ел с большим аппетитом.
«О'кэй, следуйте за нами»
Если бы кто-нибудь задумал сличать фамилии обвиняемых, названные в обвинительном заключении, с табличками, висевшими на каждой тюремной камере, он без труда обнаружил бы, что в тюрьме недостает Роберта Лея. Как же это случилось?
Когда явно обнаружился близкий крах гитлеровского режима, Роберт Лей решил, что ему пока еще нет оснований отчаиваться. С тонувшего корабля бежали многие, сбежит и он. Все пытаются спастись, и ему это не заказано.
И Роберт Лей бежит в Баварские Альпы. Там, в горах, изменив фамилию, он терпеливо пережидал, пока союзникам не надоест его искать.
Но Лею не повезло. Командование 110-й американской парашютной дивизии получило о нем сигнал от местного населения. И 16 мая 1945 года солдаты этой дивизии двинулись в путь на поимку Лея.
Вот они уже в домике, затерянном в горах. В полутемной комнате на краю деревянной кровати сидит мужчина, заросший бородой. Он заметно испуган, весь дрожит.
– Вы доктор Лей?
– Ошибаетесь, – возразил бородач. – Я доктор Эрнст Достельмайер.
– О'кэй, следуйте за нами!..
Задержанный был доставлен в штаб дивизии в Берхтесгаден. Опять допрос, и опять упорное отрицание: он не Роберт Лей. Вот документы, устанавливающие, что он Эрнст Достельмайер. Не помогли даже доводы офицера из разведывательных органов США, много лет следившего за Леем и хорошо знавшего своего подопечного. Ответ был прежним:
– Вы заблуждаетесь.
– Ну хорошо, – сказал офицер и сделал знак солдатам.
Через минуту в комнату был введен старик немец, восьмидесятилетний Франц Шварц, бывший казначей национал-социалистской партии. Увидев задержанного, Шварц громко воскликнул:
– О! Доктор Лей?! Что вы тут делаете?
После того как его опознал и сын Шварца, Лей счел дальнейший фарс с переодеванием бесцельным.
– Вы выиграли, – с досадой бросил он американскому офицеру.
Так бывший руководитель германского трудового фронта был арестован, а затем водворен в Нюрнбергскую тюрьму и включен в список подсудимых. Надо сказать, что в этом списке Роберт Лей занял свое место вполне заслуженно. Это он по указанию фюрера ликвидировал в Германии свободные профсоюзы, конфисковал их средства и собственность, организовал жестокое преследование профсоюзных лидеров. Под его руководством пресловутый германский трудовой фронт стал жестоким орудием эксплуатации немецких рабочих. Затем Роберт Лей – генерал войск СА, был поставлен во главе центральной инспекции по наблюдению за иностранными рабочими и на этом посту проявил себя самым безжалостным, самым бесчеловечным истязателем миллионов иностранных рабочих, насильственно угнанных в Германию.
Люди, близко знавшие Роберта Лея, уверяли, что только в тюрьме они увидели его трезвым. В своем пристрастии к алкоголю он был, конечно, далеко не одинок в придворной камарилье Гитлера. Никогда не упускавший случая подчеркнуть свое отвращение к соседям по скамье подсудимых, Шахт в одном из показаний заявил:
– Я должен сказать, что лишь одно сближало большинство партийных фюреров с древними германцами: они всегда пили кружку за кружкой.
Но Роберт Лей отдавался кружке с особым усердием и железной последовательностью. А поскольку в Нюрнбергской тюрьме кружки наполнялись отнюдь не спиртным, он сразу заскучал. И кто знает, может быть, именно это обстоятельство настроило его на философский лад. Он охотно откликнулся на просьбу тюремного врача доктора Келли высказать в письменной форме свои мысли о власти и перспективах Германии.
Не стоило бы, пожалуй, тратить время на то, чтобы воспроизводить здесь фрагменты из его политических пророчеств, если бы этот матерый нацист не нарисовал в них более или менее верную картину того, как сложились германо-американские отношения в последующие годы.
Да, рассуждал Лей, Советский Союз сумел разгромить Германию, но нельзя забывать, что это победа марксизма, а она опасна для Запада… И тут же начинается тривиальное запугивание «большевизмом», «азиатским наступлением» на Европу: «Запад всегда смотрел на Германию, как на дамбу против большевистского потока. Ныне эта дамба разрушена и немецкий народ не способен восстановить ее сам».
А кто же, по мысли Лея, может свершить такое? Ну конечно же, «Америка должна восстановить эту дамбу, если сама хочет жить», а немецкий народ обязан предоставить американцам соответствующую помощь. «Для нас и для Америки, – вещает Лей, – нет другого выбора».
Ратуя за германо-американский союз в будущем, он, конечно, понимает, что национал-социализм связан был в своей деятельности некоторыми крайностями, которых порядочное общество «не приемлет». И потому Лею хочется убедить американцев, что лично им эти крайности никогда не одобрялись. По мнению Лея, национал-социализм, для того чтобы он существовал дальше и стал американским союзником, нуждается только в некоторой демократической приправе. «Национал-социалистская идея, очищенная от антисемитизма и соединенная с разумной демократией, – пишет Лей, – это наиболее ценное, что может предоставить Германия общему делу».
А о каком же общем деле идет речь? Общем для Германии и США! Ну конечно же, об антикоммунизме.
Лей готов на определенную трансформацию, на совершенствование системы национал-социализма, но в целом он считает, что германо-американский союз надо начинать «с Гитлера, а не против Гитлера». Он предостерегает американцев от возможной недооценки аппарата гитлеровской партии и всех тех, на ком держалась гитлеровская Германия:
«Наиболее уважаемые и активные граждане – это те люди, которые работали в качестве гаулейтеров[5], крейслейтеров[6] и ортсгруппенлейтеров[7]. Сегодня все они или почти все находятся в заключении. А они должны быть использованы для благородной цели – примирения с Америкой и превращения Германии в проамериканского союзника».
Вот какие мысли посещали Роберта Лея в одиночной камере старой Нюрнбергской тюрьмы. Очевидно, сам того не подозревая, он стал основоположником целей послевоенной американской политики в Германии, по-своему предвосхитил и Бизонию, и Тризонию, и НАТО, и новые карьеры Глобке, Хойзингера, Шпейделя, Ферча и многих, многих других. Судьба, однако, так распорядилась событиями, что доктору Лею не пришлось лично убедиться в полном совпадении своих взглядов со взглядами и политикой американских властей.
Чтобы уж совсем закончить здесь с рекомендациями Лея, упомяну лишь еще об одном совсем трогательном его совете американским властям. Говоря о необходимости освобождения из-под стражи всех нацистских руководителей, всех гитлеровских генералов и использовании их в новых условиях, но понимая, что это может вызвать взрыв общественного мнения, он резонно подчеркивал:
«Эта акция должна быть осуществлена в полной тайне. Я думаю, что это вытекает из интересов американской внешней политики – для того, чтобы американские руки не были слишком рано видны».
Да, протрезвев наконец в тюрьме, бывший руководитель имперского трудового фронта высказал ряд пророческих мыслей насчет будущего развития американо-германских отношений. Трезвости у Лея не хватило лишь на то, чтобы предсказать собственную судьбу. Он, видимо, переоценил значение просьбы Келли – сформулировать письменно свои мысли о будущем. Где-то в глубине души у него шевельнулась надежда, что он еще пригодится – новые отношения между Америкой и Германией лучше строить с ним, чем без него. Не зря, пожалуй, вот уже несколько месяцев Лею не предъявляют никакого официального обвинения, и, кто знает, может быть, спустят дело на тормозах. Ведь было же нечто подобное с германскими руководителями после Первой мировой войны. На всякий случай Роберт Лей обращается с личным письмом к Генри Форду, хорошо известному своими профашистскими настроениями, сообщает ему о своем опыте сооружения автомобильных заводов – «фольксваген» – и просит обеспечить место после того, как будет освобожден.
И вдруг все рухнуло. Как гром с ясного неба прозвучали для него слова обвинительного заключения. Этот документ вырывает Роберта Лея из мира сладких иллюзий и возвращает к жестокой действительности. Чем больше Лей вчитывается в неумолимые строки, тем меньше он верит в воздушные замки, которые без конца и без устали только недавно сооружала его фантазия. Он наконец постиг ту горькую истину, что и без доктора Лея американцы смогут провести намеченную им программу. Программа-то, без сомнения, хороша, да только сам ее автор слишком уж скомпрометирован. Эта битая карта никогда уже не будет пущена в ход в новой политической игре.
Перед Леем впервые во всей своей жуткой реальности представилась ожидающая его судьба. Нервы окончательно сдают, весь день он мерит шагами свою камеру. Его навещает доктор Джильберт и записывает в своем дневнике, что глаза у подсудимого «имеют безумное выражение».
Это было в ночь на 25 октября 1945 года. Через 25 суток должен был начаться исторический Нюрнбергский процесс, на котором Лею было уготовано его законное место.
Ночью происходит последний диалог между бывшим руководителем германского трудового фронта и часовым, охранявшим его камеру. Часовой спросил, почему он не спит. Лей близко подходит к «глазку», неподвижно смотрит в лицо простому американскому парню и невнятно бормочет:
– Спать? Спать?.. Они не дают мне спать… Миллионы чужеземных рабочих… Боже мой! Миллионы евреев… Все убиты. Все истреблены! Убиты! Все убиты. Как я могу спать? Спать…
Может быть, в эту ночь доктору Лею стало вдруг жаль загубленных жизней? Нет, не об этом он думал. Палач боялся той неотвратимой ответственности, которая его ждет. Он жалел не тех, кого помогал мучить и уничтожать, а только себя. Все остальное было лишь психологическим фоном, на котором происходило разложение этого мелкого себялюбца, трусливого и низкого. Перед ним отчетливо вырисовывались веревочная петля и огромная толпа людей в лагерных халатах, которая вот-вот потащит его к помосту, к этой петле. Ему стало невыносимо страшно, настолько страшно, что он поспешил сам полезть в петлю…
Часовой, совершавший обход других камер, вновь заглянул к Лею и вдруг обнаружил, что его нет. Присмотрелся внимательнее и в одном из углов камеры, где установлен туалет, увидел согнувшуюся фигуру заключенного. Ну что ж, обычная картина.
Бегут минуты, а Лей все не меняет позу. Часовым овладевает беспокойство.
– Эй, доктор Лей! – кричит он в «глазок».
Ответа нет.
Через мгновение четверо американских военных вскакивают в камеру, и перед ними жалкое зрелище – имперский руководитель трудового фронта, согнувшись над стульчаком, висит в петле, сделанной из полос разорванного одеяла. Попытки привести его в чувство не удались. Врачи констатировали смерть.
Самоубийство Лея вызвало смятение среди тюремной стражи. Если до этого один часовой полагался на четыре камеры, то после самоубийства охрана появилась у каждой двери. Круглые сутки за всеми подсудимыми неотрывно велось наблюдение в «глазок». Это было очень утомительно, и караул приходилось часто менять.
Весть о бесславном конце Лея очень скоро проникла в камеры к остальным подсудимым. Первым на нее реагировал Геринг:
– Слава богу! – жестко сказал он. – Этот бы нас только осрамил.
А в разговоре с Джильбертом бывший рейхсмаршал развил свою мысль:
– Это хорошо, что он мертв. Я очень боялся за поведение его на суде. Лей всегда был таким рассеянным и выступал с какими-то фантастическими, напыщенными, выспренними речами. Думаю, что перед судом он устроил бы настоящий спектакль. В общем, я не очень удивлен. В нормальных условиях он спился бы до смерти.
Такова эпитафия одному из руководителей «третьей империи», тем более ценная, что она исходила из уст нациста № 2.
Имперский руководитель трудового фронта не дожил до суда. «Фельдмаршал в битве против рабочего класса», как его охарактеризовал один из обвинителей на процессе, ответил на обвинение самоубийством. Очевидно, у него не было лучшего ответа.
Червь возвращается к червям
Не дожил до суда и Генрих Гиммлер, но имя его поминалось в ходе Нюрнбергского процесса почти ежедневно.
– Это Гиммлер отдал приказ…
– По этому вопросу имелась директива рейхсфюрера Генриха Гиммлера…
– Об этом мог бы дать показания только Гиммлер…
Такие и подобные им ссылки делались всеми подсудимыми, когда речь заходила о страшных преступлениях нацизма.
Много раз и судьям, и обвинителям приходилось сожалеть об ошибке, допущенной офицерами английских оккупационных властей, лишившей Международный трибунал возможности допросить имперского руководителя СС. Вряд ли стоит говорить о том, какой услугой была эта ошибка для того же Германа Геринга, который с такой циничной откровенностью выражал свое удовлетворение самоубийством Лея.
Правда, рейхсфюрер СС не отличался истеричностью Лея. Но ведь никто не поручился бы за то, что Генрих Гиммлер по-рыцарски мог взять на себя всю вину, щадя своих соседей по скамье подсудимых. Это никак не вязалось с его характером и привычками. Гораздо легче можно было представить нечто совершенно противоположное, если бы вдруг открылась дверь и солдаты ввели в зал Генриха Гиммлера. Но увы, появление его здесь совершенно исключалось.
Шли последние месяцы войны. Геббельс и Фриче все еще надрывно кричали в микрофоны, что Германия полна сил и недалек тот час, когда по приказу фюрера на чашу весов будет брошено новое секретное оружие, которое быстро решит исход тяжелой борьбы в пользу «фатерланда». Но и сами они, и, уж конечно, Генрих Гиммлер к тому времени ясно поняли, что карта «третьей империи» бита, что гитлеровский режим накануне жесточайшего поражения.
Главный имперский каратель все чаще стал задумываться о собственной судьбе. Он всегда слыл реалистом, а тут вдруг утратил всякое чувство реального, сочтя себя подходящей фигурой для официальных переговоров с союзниками. Нет, слишком много крови было на нем, слишком широкой известностью пользовалось имя палача и инквизитора, главаря СС, организатора и повелителя лагерей уничтожения и газовых камер, чтобы даже на Западе его рассматривали как «высокую договаривающуюся сторону».
Однако Гиммлер упорно пытался игнорировать это. В течение нескольких месяцев, предшествовавших краху, он неоднократно встречается с шведским графом Бернадотом, видя в нем подходящего посредника для установления контакта с западными державами. Предлог: переговоры о судьбе датских и норвежских военнопленных.
«Когда Гиммлер внезапно предстал передо мною в роговых очках, в зеленом мундире эсэсовца, без всякой декорации, – вспоминал позднее Бернадот, – то он сразу произвел впечатление какого-то незначительного чиновника. Если бы я встретил его на улице, то определенно не обратил бы на него никакого внимания…»
Между тем перед Бернадотом стоял человек, которого боялась и люто ненавидела вся оккупированная Европа.
Гиммлера давно уже не волновали военнопленные, в особенности датские и норвежские. И вообще, разве они еще сохранились? Сегодня Гиммлер волновался преимущественно за судьбу самого Гиммлера. Несмотря на то что участь гитлеровской империи уже предрешена, он еще чувствует в своих руках власть и пытается через Бернадота установить связь с Эйзенхауэром, предложить американскому генералу капитуляцию гитлеровских войск на западе, с тем чтобы иметь возможность продолжать сопротивление на востоке.
В поисках спасения главный исполнитель чудовищного гитлеровского плана поголовного уничтожения целых народов мечется из стороны в сторону и в последние дни войны смиренно склоняет голову даже перед Хиллом Сторчем, стокгольмским представителем еврейского всемирного конгресса. В результате из Швеции в Берлин прилетает Норберт Мазур, чтобы вести переговоры об освобождении из концлагерей еще оставшихся в живых евреев.
Совещание между Гиммлером и Мазуром происходит 21 апреля 1945 года в кабинете шефа гестапо. Гиммлер пытается через Мазура уверить мир, что преступлений против евреев совершались помимо его воли. Сам он-де всегда был рад помочь им и готов даже сейчас идти на ужасно рискованные для него комбинации, лишь бы спасти этих несчастных. Тут же Мазуру предъявляется только что подписанное Гиммлером распоряжение об освобождении из лагеря Равенсбрюк тысячи еврейских женщин. Но Гиммлер просит, чтобы это не получило огласки в печати. В официальных документах речь будет идти о польских женщинах.
Наконец, он показывает Мазуру и свою последнюю инструкцию. Она гласит:
«Приказ фюрера об уничтожении всех концлагерей со всеми находящимися в них людьми и лагерной стражей настоящим отменяется. При подходе армии противника должен быть выброшен белый флаг. Концлагеря эвакуации не подлежат. Впредь запрещается убивать евреев».
К тому времени было уже уничтожено шесть миллионов евреев. В лагерях их оставалось совсем немного. И вот тут-то чудовищный убийца решил перевоплотиться в ангела-хранителя.
Гиммлер сознает, что если об этих переговорах станет известно Гитлеру, то «обожаемый фюрер» даже в последние часы собственной жизни позаботится о голове «железного Генриха». И Гиммлер старается упрятать концы в воду. Вместе со своим подручным эсэсовцем Шелленбергом он планирует путч.
Гиммлер доверительно сообщает Шелленбергу о все усиливающейся болезни Гитлера, о все увеличивающейся его сутулости, вялом виде, дрожании рук. Этот разговор происходит в лесу (в другом месте могут подслушать!). Обсуждаются наиболее подходящие методы устранения Гитлера. Гиммлер говорит об аресте, а Шелленберг предлагает своему шефу отправиться к Гитлеру с разъяснениями всей безнадежности положения Германии и настойчиво рекомендовать ему уйти в отставку.
– Это исключено, – отвечает Гиммлер, – фюрер в припадке бешенства велит меня застрелить.
– Ну против этого можно принять соответствующие меры, – спокойно возражает Шелленберг. – Вы имеете в своем распоряжении достаточное количество высших офицеров СС, которые в крайнем случае могут осуществить арест. Наконец, если убеждение не поможет, то в это дело надо включить врачей…
Заодно обсуждается, что должен сделать Гиммлер, как только займет место Гитлера.
– Немедленно распустить национал-социалистскую партию и создать новую, – советует Шелленберг.
– А какое название вы дали бы ей, этой новой партии? – спрашивает Гиммлер.
– Партия национального единства, – отвечает гестаповец…
Но Советская Армия путает Гиммлеру все карты. Каждый ее новый удар, каждый километр, приближающий ее к сердцу Берлина, делает намеченные планы все более эфемерными.
И все-таки он снова встречается с Бернадотом, опять просит графа устроить ему встречу с Эйзенхауэром. Гиммлер настолько уверен в возможности такой встречи, что тут же, можно сказать, параллельно обсуждает с Вальтером Шелленбергом, как ему держаться с американским главнокомандующим:
– Должен ли я только поклониться или надо подать ему руку?
Шелленберг, более трезво оценивающий обстановку, вместо ответа на вопрос, сам спрашивает своего шефа:
– А что вы станете делать, если ваше предложение будет отвергнуто?
– В этом случае я возьму на себя командование батальоном на Восточном фронте и паду в бою, – торжественно заявляет Гиммлер.
Конечно, рейхсфюрер лгал. Он и в мыслях не имел такого.
Главарь СС умел пускать пыль в глаза, ловчить, заметать следы. Однако, как он ни старался, Гитлер все же прознал о его переговорах с Бернадотом. Появись Гиммлер в то время в имперской канцелярии, и голова его покатилась бы с плеч. Но рейхсфюрер СС предпочитал держаться подальше от гитлеровской норы. Он курсировал между Любеком и Фленсбургом, все еще надеясь стать главой государства, хотя Адольф Гитлер уже заклеймил его в своем «завещании» как предателя.
30 апреля Дениц получил шифрованную радиограмму следующего содержания:
«Раскрыт новый заговор. По радиосообщениям противника Гиммлер через Швецию добивается капитуляции. Фюрер рассчитывает, что в отношении всех заговорщиков Вы будете действовать молниеносно и с несгибаемой твердостью. Борман».
Дениц был несколько смущен такой радиограммой. Что значило действовать «молниеносно и с несгибаемой твердостью» против Гиммлера, который все еще располагал полицейскими силами и организациями эсэсовцев? Адмирал вежливо попросил Гиммлера встретиться с ним. Эта встреча состоялась в одной из полицейских казарм в Любеке в присутствии всех начальников СС, которых удалось вызвать.
Как вспоминает Дениц, рейхсфюрер принял его не сразу. По-видимому, он уже чувствовал себя в положении главы правительства.
Адмирал спросил, соответствует ли действительности сообщение о том, что он, Генрих Гиммлер, пытался через графа Бернадота связаться с союзниками. Ответ последовал отрицательный, и оба собеседника расстались мирно.
Но на исходе того же дня, 30 апреля 1945 года, Дениц получает новую радиограмму:
«Вместо рейхсмаршала Геринга фюрер назначает отныне Вас, господин гросс-адмирал, своим преемником. Письменное полномочие выслано. С настоящего момента Вам надлежит принимать все меры, которые окажутся необходимыми в новой обстановке. Борман».
Теперь уже Дениц пригласил к себе Гиммлера. Не зная еще, как последний отреагирует на решение Гитлера, адмирал принял необходимые меры предосторожности. Была усилена охрана штаба вплоть до установки тяжелых орудий. Отряд телохранителей, составленный из команд подрывников, цепью окружил дом, в котором помещался сам Дениц.
Свидание состоялось в атмосфере взаимной подозрительности и недоверия. Беседа велась без свидетелей, но сам Дениц так записал о ней:
«Мы встретились с Гиммлером с глазу на глаз в моей комнате. На всякий случай я положил свой браунинг на письменный стол, с тем чтобы в любой момент им воспользоваться. Спрятал пистолет под бумаги. Затем дал Гиммлеру телеграмму, чтобы он прочел ее. Он побледнел и углубился в размышления».
Имперский палач, как видно, только в этот миг почувствовал, что положение его становится совсем безнадежным. Но тяжкие его размышления не затягиваются надолго. Гиммлер встает, поздравляет Деница и, обращаясь к нему, говорит:
– Разрешите мне быть вторым лицом в государстве.
Новый фюрер решительно отвергает это предложение.
«Мы беседовали с ним около часа, – вспоминает Дениц. – Я объяснил ему причины, в силу которых мне хотелось образовать правительство как можно более аполитичное».
Конечно, Деницу, который еще на что-то надеялся, не нужен был такой кровавый союзник. Гестапо не та фирма, с которой можно было связывать себя в последние дни «третьей империи».
С этих пор Генриху Гиммлеру хотелось только одного: чтобы люди о нем забыли. Однако его усиленно ищут контрразведывательные органы союзных стран. Район, где скрывается Гиммлер с двумя своими адъютантами, надежно блокирован.
Рейхсфюрер СС сбрил усы, на левый глаз надел черную повязку, в кармане у него удостоверение тайной полевой полиции на имя Генриха Хицингера. Полицейский ум Гиммлера ищет спасения в дешевом фарсе с переодеванием.
То были шумные дни, когда по дорогам Германии двигались многоязычные толпы: здесь и немцы-беженцы, и освобожденные иностранные рабочие, и военнопленные. Пробираясь через людской поток, 21 мая 1945 года Гиммлер и два его спутника оказались близ Бремерверде. И тут он нос в нос столкнулся с патрулем. По иронии судьбы патрульными оказались русские парни из военнопленных, добровольно вызвавшиеся помочь комендантской службе британской армии.
Бывший рейхсфюрер СС предъявляет свое удостоверение: новенький, безупречно подготовленный документ, такой, какого никто в толпе не имел. И эта полицейско-чиновничья предусмотрительность Гиммлера стала началом его конца. Патрули подозрительно покосились и на всякий случай задержали господина с черной повязкой на левом глазу.
Задержанный передается английским властям. Те эвакуируют его из лагеря в лагерь. Пока он все еще остается только подозрительным лицом. Однако через несколько дней британская контрразведка начинает догадываться, с кем имеет дело. Генрих Гиммлер и сам понимает, что долго ему не продержаться в роли Хицингера. Он принимает отчаянное решение и требует, чтобы его доставили к коменданту лагеря Тому Сильвестру.
Вот они один на один с комендантом. Хицингер, не торопясь, снимает черную повязку, надевает очки и четко глуховатым голосом представляется:
– Генрих Гиммлер.
Капитан Сильвестр несколько огорошен, но быстро овладевает собой:
– Отлично. Чего же вы хотите?
Гиммлер доволен тем впечатлением, которое произвело его признание. В нем снова теплится надежда.
– Я хотел бы поговорить с фельдмаршалом Монтгомери, – отвечает он.
Комендант обещает доложить кому следует. Однако вскоре рейхсфюрер СС убеждается, что никто не собирается вести с ним «переговоры», его ожидает лишь следователь.
Гиммлера тщательно обыскивают, раздевая догола. В кармане куртки находят ампулу с цианистым калием. Офицеров разведки это успокаивает. Они считают принятые ими меры предосторожности вполне достаточными для предотвращения возможного самоубийства разоблаченного преступника. Гиммлера направляют в камеру.
К вечеру из штаба Монтгомери в лагерь прибывает полковник Мэрфи. Он намерен лично допросить Гиммлера, но перед тем осведомляется:
– Был ли найден яд?
– Да, в кармане оказалась ампула. Она изъята.
Мэрфи выясняет, был ли тщательно осмотрен рот арестованного. Вот это, оказывается, сделать не догадались. Полковник требует исправить упущение.
– Я думаю, – говорит он, – ампула в кармане была лишь для отвлечения внимания.
Гиммлера доставляют для повторного обыска. Предлагают открыть рот. Глаза рейхсфюрера СС превращаются в узкие щелочки. Быстро и энергично он сдавливает челюсти. Что-то явственно хрустнуло, и Гиммлер падает как пораженный молнией.
Вторая ампула с ядом оказалась мастерски вмонтированной позади зубов…
Таков был конец Генриха Гиммлера. Его захоронили где-то в лесу близ Люнебурга. Неизвестный английский солдат, бросив последнюю лопату земли на могилу первого палача «третьей империи», удовлетворенно сказал:
– Пусть червь возвращается к червям.
Опаленный огнями сражений английский ветеран никак не подозревал при этом, что пройдет не так уж много лет и в Западной Германии еще вспомнят «железного Генриха», попытаются обелить его. Для чего? С какой целью? Цель ясна: милитаристам и реваншистам очень импонируют вчерашние люди рейхсфюрера, потребовался опыт СС…
На Нюрнбергском процессе один из видных эсэсовцев – обергруппенфюрер [8] Бах-Зелевский показал, что в 1941 году на совещании в Везельсбурге Гиммлером была поставлена задача: уничтожить в России тридцать миллионов человек. Речь шла, конечно, о мирном населении, ибо Гиммлер в данном случае толковал не о боевых действиях, а об уменьшении биологического потенциала славянских народов.
Такую установку Гиммлера помнил и Геринг. В своих показаниях он сообщил:
– Гиммлер произнес речь в том духе, что тридцать миллионов русских должны быть истреблены.
Советский обвинитель спросил Бах-Зелевского:
– Подтверждаете ли вы, что вся практическая деятельность немецких властей, немецких воинских соединений… была направлена на выполнение этой директивы – сократить число славян на тридцать миллионов человек?
Бах-Зелевский ответил утвердительно:
– Я считаю, что эти методы действительно привели бы к истреблению тридцати миллионов, если бы их продолжали применять и если бы ситуация не изменилась в результате событий.
А теперь давайте прочитаем, что пишет о Гиммлере Ганс Фриче в своей книге «Меч на весах», вышедшей в Западной Германии. Оказывается, у Гиммлера и в мыслях не было уничтожать 30 миллионов советских граждан. Фриче рисует такую картину:
«Как-то вечером в начале 1941 года Гиммлер, собравшись вместе с Бах-Зелевским, Гейдрихом, Вольфом и другими в Везельсбурге, говорил о возможной войне с Россией. Подсчитывая наиболее вероятные потери России на полях сражений, от болезней, эпидемий и голода, Гиммлер пришел к выводу, что Россия потеряет 30 миллионов человек».
Все вывернуто наизнанку. Никаких директив об уменьшении биологического потенциала славянских народов Гиммлер не давал. Он лишь прикидывал, во что может обойтись России война с Германией.
Так задним числом делаются фальшивки!
Ганс Фриче, к сожалению, не одинок. Там же – в Западной Германии – бывший личный врач рейхсфюрера Феликс Керстен опубликовал не менее лживую книгу под претенциозным названием «Генрих Гиммлер без мундира». Читателям доверительно сообщается, что «железный Генрих», по существу, был либеральным человеком, отличался исключительной честностью, скромностью и добротой. За это его будто бы очень любили солдаты. Из своего скромного жалованья рейхсфюрер якобы оказывал им материальную помощь. С серьезным видом Керстен уверяет, что однажды, когда он привез Гиммлеру из Швеции часы стоимостью в 160 марок, могущественный министр «третьей империи» оказался не способным сразу расплатиться с ним. «Он дал мне лишь 50 марок, так как был конец месяца, и просил меня повременить с остатком суммы до получки».
Таковы сказки Керстена. А вот один факт.
Уже когда Гиммлер был мертв, под Берхтесгаденом обнаружился принадлежавший ему клад: 25 935 английских фунтов, 8 миллионов французских франков, 3 миллиона марокканских франков, 1 миллион рейхсмарок, 1 миллион египетских фунтов, 2 миллиона аргентинских пезо, полмиллиона японских иен и другая валюта.
Последняя резиденция гитлеровского правительства
В зале суда бывшее германское правительство размещалось на двух скамьях. Принцип размещения, в общем, соответствовал положению, которое каждый раз подсудимый занимал в нацистской иерархии.
На первом месте в первом ряду – Герман Вильгельм Геринг. Вряд ли я узнал бы его, если бы встретил в гражданском костюме где-нибудь в коридорах Дворца юстиции. Ведь нам приходилось видеть большие карикатуры на Геринга, чем его портреты. С карикатур на нас смотрел тучный сатрап с заплывшим жиром лицом. А здесь, в зале суда, когда я вплотную подошел к скамье подсудимых, передо мной сидел человек весьма умеренной полноты. Лишь потому, как на нем висел френч, можно было догадаться, что он сильно исхудал.
Тщетно было бы искать на лице или в повадках Геринга то, что итальянский криминалист Ломброзо называл чертами врожденного преступника. И, чтобы уже не возвращаться к этому вопросу, скажу здесь сразу, что почти никто из нюрнбергских подсудимых не производил впечатления озверелого эсэсовца. Напротив, некоторых из них – например, руководителя «Гитлерюгенда» Бальдура фон Шираха – можно было принять за весьма респектабельных джентльменов.
Ничего зверски палаческого не проглядывало и в Геринге. Он широк в плечах. На энергичном лице – серые живые глаза, прямой нос, тонкие губы. Лишь мешки под глазами выдавали патологию. Полковник Эндрюс повел с ней борьбу, лишив Геринга наркотиков. Может быть, именно потому Геринг и выглядел к началу процесса более презентабельно, чем в былые времена. То, что не смогли сделать его многочисленные врачи, сделала нюрнбергская камера.
В Германии, пожалуй, всем была известна страсть рейхсмаршала чуть ли не ежедневно менять мундиры. Он сам придумывал их рисунки и покрой. Но на процессе Геринг все время появлялся в сапогах и брюках галифе с генеральскими лампасами. Прежде чем сесть, обязательно укутывался в армейское одеяло, которое приносил с собой. Видимо, ему было не очень уютно на обыкновенной деревянной скамье.
Если другие подсудимые сидели в одной, привычной для них позе, то Геринг очень часто менял положение, вел себя весьма экспансивно, поминутно поворачивался к соседям, что-то шептал им. Но при всем том и он, и его соседи по скамье подсудимых в первые дни процесса держались с показным достоинством, совсем как на очередном партейтаге. Стоящих вокруг американских полицейских они, как видно, склонны были считать чем-то вроде своей охраны.
В гитлеровском государстве Геринг любил величать себя «человеком № 2» (первое место уступалось Адольфу Гитлеру). Здесь же его называют подсудимым № 1, и он старается держаться соответственно: благосклонно беседует с членами правительства германской империи, которых судьба загнала на скамью подсудимых, все время позирует, привлекая к себе внимание иностранных фотокорреспондентов. Внешне Геринг спокоен – пока ведь на процессе не произошло еще ничего такого, что могло бы вывести его из равновесия. Но это только внешне. Ему хорошо известно, что придет время, когда каждый из сидящих рядом с ним должен будет давать показания. И кто знает, как поведут себя эти люди – не захотят ли они спрятаться за его спиной, откупиться его именем и жизнью?
В первые дни процесса его явно задевали нелестные эпитеты прокуроров. Геринг часто вскакивал и вытягивал руку, требуя слова. Лишь после спокойных, но убедительных своей категоричностью разъяснений председательствующего он несколько утихомирился. Никто, разумеется, не лишал его возможности отвечать на предъявленные обвинения (мы еще увидим, сколько часов и дней слушал трибунал одного Геринга), однако ему сумели внушить, что здесь он не рейхсмаршал, а лишь подсудимый и вести себя должен соответственно, как ведут подсудимые во всех судах мира. Нетрудно было заметить, сколь тяжело переживалось это «вторым человеком империи». Совсем ведь недавно к нему самому приходили верховные судьи Германии получать «высочайшие» указания. Но, увы, все это в прошлом.
Когда-то грудь и заплывший живот Геринга, усеянные орденами, сравнивали с витриной ювелирного магазина. Теперь он сидит во френче без погон, без орденов и без радостных перспектив. Тем не менее стоит Герингу только заметить, что на него направлены объективы фотоаппаратов или кинокамер, и он сразу же начинает устраивать мимические сцены: вскидывает голову, пытаясь глядеть невозмутимо и надменно, делает театрально повелительные жесты охране.
Все это внешнее, наигранное не могло, конечно, скрыть подлинного карьеристского и трусливого естества Геринга. Оно обнажалось показаниями и заявлениями других подсудимых. Некоторые любопытные штрихи к портрету нациста № 2 сделали, в частности, сидевшие позади него гросс-адмиралы Дениц и Редер.
Одни из первых актов фашистского режима было образование имперского министерства авиации. Возглавил это министерство Геринг, сразу же произведенный из капитанов в генералы, а затем – в рейхсмаршалы. Понятно, что такой человек, как Редер, всю жизнь передвигавшийся по лестнице военной иерархии со ступеньки на ступеньку, не мог равнодушно отнестись к этому и не без оснований считал Германа Геринга выскочкой. Редер был убежден, что по своему военному кругозору господин рейхсмаршал так и не перешагнул уровня армейского капитана. Мелкая завистливость и властолюбие, как и каиново клеймо, отмечали все его поступки. Часто, очень часто к решению важных государственных и военных вопросов Геринг подходил именно с карьеристских позиций. Вразрез с очевидной нецелесообразностью он требовал и в отдельные периоды войны добивался изъятия военно-морской авиации из подчинения морскому командованию и передави ее в ведение самого рейхсмаршала. Как свидетельствует Дениц, эта вредная для дела акция была облечена в формулу: «Все, что летает, – мое». Военно-морским силам было обещано, что люфтваффе[9] сполна обеспечит их действия. Как и многие другие широковещательные заверения Геринга (впоследствии он даст обещание обеспечить бесперебойное снабжение по воздуху группировки Паулюса, окруженной в Сталинграде), в действительности это не сбылось, Потребовалось вмешательство Гитлера, после чего морская авиация вернулась в подчинение военно-морского флота. Герман Геринг, по свидетельству Редера, реагировал на это столь же болезненно, сколь и мелко:
– Рейхсмаршал настоял, чтобы военно-морские летчики по званиям и форме не отличались от офицеров люфтваффе…
Но это еще цветочки. Ягодки оказались впереди. Когда летом 1940 года морские летчики добились значительных успехов в блокировании Британских островов, Герман Геринг усмотрел в этом удар по его личному престижу. В результате, как утверждает Редер, рейхсмаршал запретил военно-морской авиации ставить мины в прибрежных водах и сбрасывать торпеды на вражеские конвои, а заодно парализовал попытки изготовления новых, более совершенных авиаторпед.
По правде говоря, Редер тоже не отличался лояльностью к своим «коллегам». В Нюрнберге он был рад вспомнить все, что давало возможность измазать грязью Германа Геринга. Как-никак, а такие показания в какой-то мере реабилитировали неудачи самого Редера в ходе морской войны. Но в общем-то высказывания гросс-адмирала в отношении Геринга логично вписывались в портрет первого карьериста третьего рейха.
Сообщив следствию конкретные факты, Редер заключает, что только на одних достаточно для привлечения бывшего главнокомандующего ВВС к суду, «так как он по причинам престижного порядка вредил делу ведения морской войны».
Гросс-адмирал Дениц со своей стороны добавляет, что он тоже неоднократно становился жертвой тактики Геринга – «первым докладывать Гитлеру ошибки и промахи других видов вооруженных сил и при этом выставлять их командование в неприглядном виде». Этим способом нацист № 2 стремился отвлечь фюрера от многочисленных провалов и ошибок люфтваффе, количество и масштабы которых возрастали по мере того, как война шла к концу.
Один такой случай Дениц живописал особенно колоритно. Как-то Геринг обрушился на командование военно-морского флота за то, что германские торпедные катера понесли большие потери при налете английских бомбардировщиков. Причина, по Герингу, заключалась в плохой маскировке и недостаточной рассредоточении. Услышав такое, Дениц рассвирепел:
– Я не советовал бы вам, господин рейхсмаршал, критиковать действия флота. Займитесь-ка лучше своей авиацией:
там для вас найдется достаточно дел…
По свидетельству гросс-адмирала, после такого его заявления в кабинете фюрера воцарилась мертвая тишина. Нарушил ее лишь сам Гитлер, приказав очередному офицеру продолжать доклад. А когда кончилось совещание, фюрер демонстративно пригласил Деница остаться на завтрак, с Герингом же попрощался, пожав ему руку.
Наглый в сознании своей силы и трусливый в иных обстоятельствах, Геринг сразу же почувствовал, что канат стал перетягивать в свою сторону Дениц. Пренебрегая оскорблением, которое нанес ему гросс-адмирал, он сделал соответствующие выводы и в дальнейшем, как свидетельствует Дениц, уже не отваживался вторгаться в сферу деятельности командования военно-морского флота.
– По всему было видно, что он собирался окончательно помириться со мной. И действительно, через несколько дней он прислал мне, к моему удивлению, летную эмблему, выложенную бриллиантами. Я же не в состоянии был ответить ему аналогичным жестом…
Геринг сидит рядом с Рудольфом Гессом и чаще всего обращается к нему. Беседы эти носят характер монолога: Геринг что-то убежденно говорит, активно жестикулируя, а Гесс только обводит зал суда мутным взглядом.
Одет Гесс в серый костюм. Редкие черные волосы, на которых не заметна седина, зачесаны наверх. Скуластое лицо, большие торчащие уши. Под густыми черными бровями два глубоких провала. Оттуда, из глубины, тускло мерцают маленькие, ни на чем не задерживающиеся глазки. Иногда кажется, что они смотрят, но не видят. Что и говорить, совсем не «арийская» внешность у этого яростного адепта теории «избранной расы».
В нацистском государстве Рудольф Гесс был заместителем Гитлера по руководству национал-социалистской партией. До 1941 года это один из наиболее могущественных министров. От него исходили важнейшие директивы всем партийным организациям.
В отличие от большинства подсудимых родился он не в Германии, а в египетском городе Александрии. До пятнадцати лет его учил домашний учитель, и лишь после этого Гесс был послан в Германию для завершения своего образования. Первая мировая война свела Гесса с Гитлером: они оказались в одном полку. К концу войны он уже летчик и вместе с Герингом отличается в бомбардировках мирных городов.
После поражения Германии Гесс вступает в национал-социалистскую партию и играет важную роль во время путча в ноябре 1923 года. Гитлер поручает ему захватить в качестве заложников нескольких руководителей Баварской республики. Когда путч провалился, Гесс бежит в Австрию, однако вскоре возвращается в Германию и подвергается аресту. Его помещают в тюрьму при форте Ландсберг, где оказался и Гитлер.
Здесь Гесс фактически служит Гитлеру секретарем: записывает под диктовку большую часть национал-социалистской библии «Майн кампф». Когда-то отец Гесса, мечтая сделать его коммерсантом, учил стенографии. Коммерсантом он не стал, но знание стенографии пригодилось. Впрочем, Гесс не только стенографировал «Майн кампф». Он делал большее – творчески участвовал в создании людоедской библии. Гесс был увлечен агрессивными теориями геополитики, которую внушал ему его учитель Гаусгофер, и постепенно все это перекочевало в гитлеровскую книгу.
На Нюрнбергском процессе каждого, пожалуй, интересовал вопрос о полете Гесса в Лондон перед самым нападением Германии на Советский Союз. Как известно, уже день спустя после этого полета канцелярия Гитлера сообщила, что Гесс совершил сей «бессмысленный акт», находясь в умственном расстройстве. Но так ли это было в действительности?
И во время процесса, и значительно позже в литературе, особенно немецкой, широко была распространена версия, будто Гесс в течение многих лет болезненно переживал тот факт, что Гитлер объявил своим преемником не его, а Германа Геринга. Одновременно западноевропейские историки пытаются доказать, что Гесса якобы очень взволновало намерение Гитлера уже в 1941 году развязать войну против СССР. Он считал, что таким своим решением Гитлер нарушает основную заповедь его, Гесса, кумира – Гаусгофера: никогда не воевать на два фронта. И Гесс пришел к выводу, что настало время сделать нечто такое, что раз и навсегда отбросило бы назад Геринга и возвысило самого Гесса. Таким блестящим государственным шагом он считал заключение мира между Германией и Англией. Вот тогда-то Гитлер поймет, кто действительно достоин быть его преемником. И Гесс полетел в Лондон.
Не буду распространяться о подробностях его переговоров в Лондоне (я об этом писал уже в своей книге «От Мюнхена до Нюрнберга»). Скажу лишь, что опубликованные на Нюрнбергском процессе документы, излагающие ход переговоров с Гессом, не оставляют камня на камне от сложных логических построений жрецов буржуазной исторической науки. Совершенно неоспорим факт, что то, с чем Гесс прилетел в Лондон, полностью совпадало с тем, к чему стремилось и все правительство Гитлера в период, предшествовавший нападению на СССР: обеспечить нейтралитет Англии и тем самым обезопасить свой тыл с запада. Ничего, собственно, оригинального Гесс в Лондон не привез. А сделав Англии унизительные, по существу, предложения – признать будущее господство Германии в Европе – и обещая ей взамен лишь господство в странах Британской империи, он, конечно, и не мог ничего добиться. Не то было время, и не так-то просто оказалось заставить англичан вступить в союз с Гитлером.
Не выдержала проверки и версия самих гитлеровцев об умственном расстройстве Гесса. За нее поначалу очень цепко ухватилась защита. Было заявлено ходатайство о судебно-психиатрической экспертизе. Международный трибунал удовлетворил его. Гесса подвергла исследованию специальная комиссия, в составе которой оказались виднейшие психиатры мира: доктор Жан Деле – профессор психиатрии Парижского медицинского института, доктор Нолан С. Люис – профессор психиатрии Колумбийского университета, доктор Ю.Н. Камерон – профессор психиатрии университета в Мак-Джилле, а со стороны Советского Союза – профессор Е.К. Краснушкин, действительный член Академии медицинских наук Е.К. Сепп и главный терапевт Министерства здравоохранения доктор А.П. Куршаков.
На основании осмотра и тщательного обследования комиссия пришла к заключению, что «в настоящее время Гесс не душевнобольной в прямом смысле этого слова. Потеря памяти не помешает ему понимать происходящее, но несколько затруднит его в руководстве своей защитой и помешает вспомнить некоторые детали из прошлого, которые могут послужить фактическими данными». Чтобы положение было совершенно ясным, эксперты рекомендовали провести наркоанализ, но, как указывается в заключении комиссии, Гесс категорически отказался от такого анализа и не захотел подвергаться какому бы то ни было лечению для восстановления памяти.
На основании отчета английского психиатра доктора Риза, который наблюдал Гесса с первого дня его пребывания в Англии, можно судить, что после аварии самолета у Гесса не было никакого мозгового повреждения. Однако в тюрьме у него появилась мания преследования: он боялся, что его отравят или убьют, а затем объявят о самоубийстве и что все это сделают непременно англичане «под влиянием евреев». В то же время сам Гесс предпринял две попытки к самоубийству, но, как заключили специалисты-медики, попытки эти были истерическо-демонстративного характера.
В одном из отчетов психиатров есть такие строки:
«С точки зрения психической Гесс находится в твердой памяти, зная, что он в тюремном заключении в Нюрнберге и что он обвиняется как военный преступник. Он читал и, по его собственным словам, знаком с обвинениями, выдвинутыми против него. На вопросы отвечает быстро и правильно. Речь его связна, мысли точны и правильны и сопровождаются достаточным количеством эмоционально выразительных движений… Гесс обладает нормальными умственными способностями, и в некоторых отношениях они выше среднего… Потеря памяти у Гесса не является следствием заболевания мозга, а представляет собой истерическую амнезию, основанием которой явилось подсознательное стремление к самозащите. Такое поведение часто прекращается, когда истерическая личность сталкивается с неизбежной необходимостью вести себя правильно. Поэтому амнезия у Гесса может пройти, как только он предстанет перед судом».
Эксперты сошлись в мнении о том, что «Гесс проявляет истерическое поведение с признаками сознательно-намеренного симулятивного характера». Но полную ясность в возникший вопрос о психической полноценности этого обвиняемого неожиданно внес… сам Гесс.
Когда закончилось рассмотрение судебно-психиатрических заключений, он медленно встал со своего места на скамье подсудимых, поднял глаза к потолку, облизнул губы, выждал, пока американские солдаты поставят рядом с ним микрофон, и вдруг объявил:
– С этого момента моя память находится в полном распоряжении суда. Основания, которые имелись для того, чтобы симулировать потерю памяти, были чисто тактического порядка. Вообще, действительно, моя способность сосредоточиться была несколько нарушена, однако моя способность следить за ведением дела, защищать себя, ставить вопросы свидетелям и самому отвечать на задаваемые мне вопросы не утрачена, и мое состояние не может отразиться на всех этих перечисленных явлениях…
На минуту в зале воцарилась полная тишина. Но едва Гесс опустился на свое место, моментально распахнулись двери и несколько ретивых журналистов сломя голову бросились к телефонам. Лорд Лоуренс прервал заседание.
На следующий день председательствующий в самом начале заседания сообщил:
– Суд тщательно рассмотрел заявление защитника и обвиняемого Гесса и имел возможность выслушать объяснение по этому поводу как защиты, так и обвиняемого. Суд также принял во внимание подробные медицинские отчеты и пришел к заключению, что нет никаких оснований проводить дальнейшее обследование обвиняемого. После того как обвиняемый Гесс сам дал объяснение суду, а также имея в виду собранные судом доказательства, суд приходит к выводу, что обвиняемый в настоящее время дееспособен. Ходатайство защитника поэтому отвергается, и процесс продолжается.
Так закончилась история с попыткой вывести из-под суда одного из ближайших подручных Гитлера.
Судьба была благосклонна к Гессу: четырехлетнее пребывание в Англии спасло ему жизнь. Суд, видимо, учел, что, находясь вне Германии, Гесс не мог принимать непосредственного участия в тягчайших преступлениях, совершенных за эти годы. Однако, бесспорно, прав был советский судья, считавший, что и за все содеянное до вылета в Англию Рудольф Гесс трижды заслужил смертную казнь…
Соседом Гесса слева являлся Иоахим фон Риббентроп. Он приезжал в Москву для заключения пакта о ненападении, который через год был так вероломно нарушен. Я помнил портрет этого человека – он выглядел тогда импозантно. А теперь? В его внешности произошли весьма заметные перемены. Он не похудел, скорее, опустился. Как-то обмяк. Если Кейтель всегда был в тщательно отутюженном френче и до блеска начищенных сапогах, то Риббентроп нередко появлялся на процессе в довольно неряшливом виде.
Один из советских журналистов обратил однажды внимание на мятый костюм Риббентропа. И тогда известный советский художник-карикатурист Борис Ефимов, бросив быстрый взгляд в сторону бывшего министра иностранных дел, негромко, чуть растягивая слова, сказал:
– Ничего, отвисится.
Риббентроп сидит в позе некоего непонятого страдальца. В действительности для всех было ясно, что это мечущийся, смертельно перепуганный человечек, готовый на все, на любые унижения, лишь бы спасти свою жизнь.
По сравнению с ним сидящий рядом Вильгельм Кейтель выглядит просто браво, хотя и у того на лице нет признаков оптимизма. Кейтель вполне сохранил и внешность, и повадки, типичные для представителя прусской военщины. Прямой нос, точно очерченный подбородок, голубые глаза, подстриженные усики. Мускулы лица напряжены. Он чем-то напоминает эмблему гитлеровского орла. На нем обычный мундир с бархатным воротником, но без погон. На скамье подсудимых он появляется с неизменной папкой, наполненной бумагами, которые изучает во время заседаний. Время от времени подзывает своего адвоката доктора Нельте, видимо советуясь с ним.
Последний раз Кейтель был в полном параде с фельдмаршальским жезлом и моноклем в правом глазу 8 мая 1945 года. Он подписал тогда акт о капитуляции Германии. И как только на бумаге появилась его подпись, энергично и повелительно прозвучали слова:
– Германская делегация может удалиться.
И он удалился… в Нюрнберг.
А вот Эрнст Кальтенбруннер, заместитель Гиммлера. Из его кабинета шли директивы об уничтожении миллионов людей в подопечных ему лагерях смерти. Лошадиное лицо, испещренное шрамами – следами бретерской удали на студенческих дуэлях, – холодные черные глаза, длинный с горбинкой нос. Рот всегда полуоткрыт. Он смотрел в зал суда ненавидящим взглядом убийцы, пойманного с поличным на месте преступления.
