Читать онлайн Охотники за скальпами бесплатно
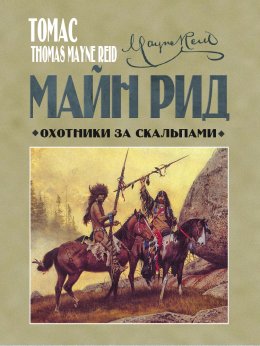
TOMAS MAYNE REID
«THE SCALP-HUNTERS.
A Romance of Northern Mexico», 1851
© перевод с английского А.Грузберг
© ИП Воробьёв В.А.
© ООО ИД «СОЮЗ»
WWW.SOYUZ.RU
Предисловие
Примерно год назад я представил публике книгу под названием «Вольные стрелки». В предисловии говорилось, что это «правда, поэтически окрашенная»; основные факты правдивы, но приукрашены поэтической вольностью, факты, разукрашенные фантазией, мозаика романтики и реальности.
Некоторые посчитали «поэтическую окраску» слишком яркой. Возможно, это и так; но общее мнение о книге не только удовлетворило меня, но и вызвало чувство благодарности; и тем, кто отнесся к ней благосклонно, я теперь предлагаю «разновидность того же самого».
Я буду вполне удовлетворен, если ваше мнение об этой книге не будет более строгим.
Я сожалею, что моя книга не имеет иной цели, кроме развлечения; но я излагаю в ней тысячи фактов – результат моего собственного личного опыта. Я постарался нарисовать сцены непривычной жизни такими, какими они сохранились в моей памяти. Если вы не поверите в их правдивость, надеюсь, вы все же сочтете их правдоподобными.
Но зачем мне настаивать на правдивости книги, если я сам говорю, что ее единственная цель – развлечение? Я и не буду настаивать. Пусть все считается вымыслом – ведь это все-таки роман; но в ответ на эту уступку с моей стороны попрошу вас не считать книгу только «романом ради романа». Если вы согласитесь с этим, я достиг своей цели.
Прежде чем идти дальше, я должен сказать два слова: одно – предупреждение вам, второе – извинения для меня. Мои сцены кровавы, некоторые исключительно кровавы, но увы! красного в них гораздо меньше, чем в реальности, из которой они взяты. Я знаю, что это слабое оправдание за то, что я их изобразил; но не хочу, чтобы вы столкнулись с ними без предупреждения. Я грубый, жестокий и безответственный писатель. Мне не хватает классических черт, которые позволяют многим моим собратьям по перу так элегантно выражать свои мысли. Если я пишу, я вынужден, чтобы заинтересовать, больше внимания обращать на содержание, чем на форму, описывать грубую реальность, а не очищенную жизнь и мысли. Больше того, моя книга – это книга о трапперах. Хорошо известно, что таперы бранятся, как солдаты, некоторые из них на самом деле гораздо хуже. Я вынужден был, насколько это возможно, облагораживать трапперов; но боюсь, что эта выразительная речь – слишком важная черта их характеров, чтобы совсем ее опускать. Если использовать банальную фразу, получится «Гамлет без Гамлета».
Однако я вижу огромную разницу между богохульством проклятий трапперов и аморальностью грязных эпизодов. Первое может лишь на мгновение вывести из себя, а вот второе способно оставить впечатление навсегда.
Я надеюсь, читатель, что ты свободен от литературного лицемерия, которое не замечает этой разницы, и, веря в это, отдаю свою книгу в твои руки.
Майн РидЛондон, 1851 год
Глава первая
Дикий Запад
Разверните карту мира и посмотрите на большой северный континент Америки. Пусть ваш взгляд упадет на дальний Запад, к садящемуся солнцу за много меридианов. Пусть ваш взгляд отдохнет на картине золотых рек среди горных вершин, на которых лежит вечный снег. Посмотрите туда.
Вы смотрите на землю, черты которой не тронуты рукой человека; эта земля все еще сохраняет форму, которую придал ей Всемогущий в самое утро творения; местность, в которой все несет божий облик. Этот вездесущий облик живет в величии гор, в шуме могучих рек; земля, благоухающая романтикой, полная приключений.
Мысленно следуйте за мной по сценам дикой красоты и свирепого величия.
Я стою на открытой равнине. Я поворачиваю лицо на север, на юг, на восток и на запад, и вокруг меня повсюду голубое кольцо неба. Ни скала, ни дерево не прерывают это кольцо горизонта. Что покрывает широкую равнину внутри этого кольца? Лес? вода? трава? Нет, цветы. Насколько хватает глаз, только прекрасные цветы!
Я смотрю на красочную карту, на прекрасную картину, расцвеченную всеми цветами радуги. Вон там золотисто-желтый цвет, это подсолнечник поворачивает свое подобное циферблату лицо к солнцу. Вон алый цвет, где мальва поднимает свои красные знамена. Вон пурпурная монарда, а вон эвфорбия распускает серебристые листья. Оранжевый цвет преобладает в цветах асклепии, а дальше взгляд падает на розовые цветы клеоме.
Ветерок шевелит цветы. Миллионы кораллов машут своими пестрыми знаменами. Высокие стебли подсолнечника сгибаются и распрямляются длинными волнами, словно в золотом море.
Вот они снова затихли. Воздух насыщен ароматами слаще арабских и индийских. Мириады насекомых машут крыльями; они сами подобны цветам; птицы-пчелы носятся, как косые солнечные лучи, или, застыв на мелькающих крыльях, пьют нектар из чаш; пчелы прячутся среди медовых пестиков или с радостной песней улетают в свой далекий улей.
Кто посадил эти цветы? Кто сплел из них этот великолепный рисунок? Природа. Это ее богатейшая мантия, более яркая, чем кашмирские шали.
Это «травянистая прерия». Название неверное. На самом деле это божий сад.
* * *
Сцена изменилась. Я, как и прежде, на равнине, и ничем не прерываемый горизонт окружает меня. Что я вижу? Цветы? Нет, видны не цветы, а обширное пространство живой зелени. С севера до юга, с востока до запада тянутся луга прерий, зеленые, как изумруд, и гладкие, как поверхность спящего озера.
Ветер гладит ее, раскачивает стебли. Все в движении; зелень покрыта движущимися темными и светлыми пятнами, когда облака набегают на солнце.
Взгляд нигде не встречает сопротивления. Иногда он натыкается на фигуры косматых бизонов или на изящные очертания антилоп. Иногда в приятном удивлении следует за далеким галопом белоснежных лошадей.
Это «травянистая прерия», безграничное пастбище бизонов.
* * *
Сцена меняется. Земля больше не ровная, но по-прежнему зеленая и лишенная деревьев. Ее поверхность представляет собой последовательность параллельных волн, которые иногда поднимаются, превращаясь в гладкие круглые холмы. Она покрыта мягким ярко-зеленым дерном. Эти волны напоминают океан после сильной бури, когда пена на волнах рассеялась, но высокие горы воды сохраняются. Кажется, что и здесь когда-то были такие волны, но потом, какой-то верховной волей, превратились в землю и внезапно застыли.
Это «холмистая прерия».
* * *
Снова сцена меняется. Я среди зелени и ярких цветов; но на пути взгляда встают рощи и густой подлесок. Кроны деревьев разные, но цвета живые, очертания мягкие и изящные. Я иду вперед, и передо мной непрерывно разворачиваются новые пейзажи, живописные и похожие на парки. «Стада» бизонов, «косяки» антилоп, «табуны» диких лошадей пятнами усеивают эти пейзажи. В рощах бегают индейки, с места на место перелетают фазаны.
Где владельцы этих земель, этих стад и этой дичи? Где дворцы, которые должны возвышаться в этих величественных парках? Я смотрю вперед, ожидая увидеть среди рощ башни богатых поместий. Но нет. На сотни миль вокруг ни одни очаг не посылает в небо дым. Эта земля знает только следы обутых в мокасины ног охотников и их врагов краснокожих индейцев.
Это «кочки» – острова в море прерии.
* * *
Я в дремучем лесу. Ночь, и горящие бревна костра бросают красный свет на все, что окружает наш лагерь. Вокруг могучие стволы деревьев, их толстые ветви, серые и гигантские, тянутся во все стороны. Я вижу кору. Она потрескалась и широкими полосами свисает наружу. Длинные змееобразные растения-паразиты перебрасываются с дерева на дерево, обвивая стволы, готовые раздавить их. Листвы над головой нет. Листья созрели и опали, но белый испанский мох гирляндами свисает с ветвей, как покров смертного ложа.
На земле лежат упавшие стволы, толщиной в ярды и наполовину сгнившие. На их концах огромные дупла, где спасаются от холода дикобразы и опоссумы.
Мои товарищи спят на опавшей листве, закутавшись в одеяла. Они лежат ногами к костру, положив головы на седла. Лошади стоят под деревьями, они привязаны к нижним ветвям и тоже кажутся спящими. Я не сплю и прислушиваюсь. Высоко над головой меж ветвями свистит ветер, длинные белые ленты раскачиваются на ветру. Дикая и меланхолическая музыка. Других звуков почти нет, потому что сейчас зима и древесные лягушки и цикады молчат. Я слышу треск поленьев в костре, шум сухих листьев, завивающихся от случайных порывов, крик «куу-вуу-а» белой совы, лай енотов и с перерывами далекий волчий вой. Таковы ночные звуки зимнего леса. Это свирепые звуки; но струны моего сердца отзываются на них. Я лежу и слушаю, и душа моя пропитывается романтикой.
* * *
Лес осенью, все еще в густой листве. Листья похожи на цветы, такие яркие у них краски. Красные, желтые золотые, коричневые. Сейчас в лесу тепло и прекрасно, и среди обвисших тяжелых ветвей летают птицы. Взгляд падает на далекие просторы и освещенные солнцем поляны. Солнце отражается в ярком птичьем оперении: золотисто-зеленые попугаи, голубые сойки, иволги с оранжевыми крыльями. Краснокрылые птицы летают в роще зеленых папай или среди янтарной листвы буковой чащи. Сотни птиц летают в листве и сверкают на солнце, как драгоценные камни.
Воздух полон музыкой, сладкими звуками любви. Лай белок, воркование голубей, разбившихся на пары, «рат-та-та» дятла и постоянное и размеренное пение других птиц сливаются вместе. Высоко на самых верхних ветвях издает свои подражательные звуки пересмешник, словно хочет заставить замолчать остальных певцов.
* * *
Я в стране коричневой голой земли и ломаных очертаний. Скалы, утесы и полоски бесплодной поверхности. Необычные растения цепляются за камни и свисают с утесов. Другие, шарообразные, лежат на поверхности сожженной земли. Еще другие поднимаются вертикально в небо, как резные рифленые колонны. Некоторые выбрасывают ветви, кривые и косматые, с овальными волосатыми листьями. Но есть что-то единообразное во всей этой растительности, в форме, цвете, в плодах и цветах; видно, что это одно семейство. Это кактусы. Целый лес мексиканских нопалей[1]. Есть еще одно необыкновенное растение. У него длинные колючие листья, изгибающиеся книзу. Это агава, знаменитый мексиканский мескаль. Тут и там среди кактусов растут акации и мескитовые деревья, жители пустынь. Здесь никакие яркие предметы не радуют глаз; в воздухе не слышны сладкие мелодии. Одинокая сова улетает в густые заросли, гремучая змея ползет в редкой тени, неслышно пробегают койоты.
* * *
Я поднимался на одну гору за другой, и по-прежнему далеко впереди вздымались пики, покрытые никогда не тающим снегом. Я стоял на нависших утесах и смотрел на открывающиеся внизу пропасти, спящие в тиши опустошения. В пропасти упали огромные фрагменты гор и лежали, нагроможденные друг на друга. Другие такие же фрагменты угрожающе нависают вверху, ожидая какого-нибудь сотрясения в атмосфере, которое выведет их из равновесия. Эти пропасти вызывают страх, и голова у меня кружится от темных фантазий. Я держаусь за ствол сосны или за выступ камня.
Подо мной, надо мной и вокруг меня горы в хаотическом беспорядке громоздятся друг на друга. Некоторые горы лысые и унылые, на других следы растительности: темные иглы сосен и кедров, чьи искривленные стволы полурастут – полусвисают с утесов. Здесь хребет четкими очертаниями вздымается на фоне неба, а по его бокам огромные гранитные камни, словно брошенные руками титанов!
Страшное чудовище – медведь гризли бродит в горах; барсы сидят на выступающих скалах, ожидая, когда под ними пройдет на водопой лось; снежные бараны в поисках пары перепрыгивают с камня на камень. На ветке лысый канюк вытягивает голую шею с грязным клювом; и орел, плывя над всеми, четко вырисовывается на фоне голубого неба.
Это Скалистые горы, американские Анды, колоссальный спинной хребет континента!
* * *
Так выглядит дикий запад, такова сцена нашей драмы.
Поднимем занавес и познакомимся с героями.
Глава вторая
Торговцы прерий
Новый Орлеан, 3 апреля 18…
Чарльзу Сент-Врейну.
Наш молодой друг Генри Халлер едет в Сент-Луис «в поисках живописного колорита». Пожалуйста, помогите ему пройти «обычный курс взросления».
Ваш Луи Уолтон
С этим лаконичным письмом в кармане жилета я 10 апреля сошел на берег в Сент-Луисе и отправился в «Плантерс Отель».
Поместив багаж, устроив лошадь в конюшню (я прихватил с собой свою любимую лошадь), я надел чистую рубашку и, спустившись в «офис», спросил о мистере Сент-Вейне.
Его не было. Несколько дней назад он уехал вверх по течению Миссури.
Для меня это было большим разочарованием: никаких других рекомендательных писем и приглашений я не привез. Но я решил терпеливо ждать возвращения мистера Сент-Врейна. Он должен был вернуться меньше чем через неделю.
Каждый день я садился на лошадь и ехал в холмы и в прерии. Бездельничал в отеле или курил сигары на красивой площади. Пил шерри-кобблер[2] в салуне и читал журналы в гостиной.
В этих и других таких же занятиях я провел три дня.
В отеле остановилась группа джентльменов, которые, по-видимому, хорошо знали друг друга. Я бы назвал их «шайкой», но это неподходящее слово и не выражает того, что я хочу сказать. Скорее это были веселые дружелюбные приятели. Они вместе гуляли по улицам, сидели рядом за столом в ресторане, где оставались долго после того, как расходились другие обедавшие. Я заметил, что они пили самое дорогое вино и потом в гостиной курили лучшие сигары.
Эти люди привлекали мое внимание; меня поражали их манеры и поведение; ездили они в повозках, похожих на индейские, вели себя по-мальчишески весело, что вообще очень характерно для американцев с запада.
Одевались они почти одинаково: костюмы из дорогой черной ткани, белые рубашки, сатиновые жилеты, булавки для галстуков с бриллиантами. У всех густые, но аккуратно подстриженные бакенбарды; у нескольких усы. Волосы падают на плечи; у большинства отложные воротники, обнажающие здоровую загорелую кожу горла. Меня поразило их сходство. Лица не похожи друг на друга, но одно и то же выражение глаз: несомненно, признак одинаковых занятий и опыта.
Может, они охотники? Нет: у охотников белые руки, на пальцах кольца с дорогими камнями, жилеты веселых расцветок и в целом вся одежда гораздо ярче и элегантней. Больше того, у охотника не бывает такой свободной и спокойной уверенности. Он опасается так себя вести. Он может жить в отеле, но будет оставаться тихим и незаметным. Охотник – хищная птица; подобно всем хищным птицам, он обычно молчалив и держится одиноко. Эти люди не из такой породы.
– Кто эти джентльмены? – спросил я у человека, сидевшего против меня, и показал ему на людей, о которых говорю.
– Люди прерий.
– Люди прерий?
– Да, торговцы из Санта-Фе.
– Торговцы! – удивленно повторил я, не в силах связать их элегантность с представлением о торговцах или о прерии.
– Да, – подтвердил мой собеседник. – Рослый красивый мужчина в середине – Бент, Билл Бент, как его называют. Джентльмен справа от него – молодой Саблетт; тот, что слева, один из Шото, а рядом с ним известный Джерри Фолджер.
– Значит, это и есть знаменитые торговцы прерий?
– Совершенно верно.
Я сидел, глядя на них с еще большим любопытством. И заметил, что они смотрят на нас и что я – предмет их разговора.
Вскоре один из них, удалого вида молодой человек, отделился от этой группы и подошел ко мне.
– Это вы спрашивали о мистере Сент-Врейне? – спросил он.
– Да.
– О Чарльзе Сент-Врейне?
– Да, это его имя.
– Это я…
Я достал письмо с представлением и протянул джентльмену, который взглянул на него.
– Мой дорогой друг, – сказал он, сердечно пожимая мне руку, – очень жаль, что меня здесь не было. Я сегодня утром приплыл вниз по реке. Как глупо, что Уолтон не написал Биллу Бенту! Давно вы здесь?
– Три дня. Я приплыл десятого.
– Клянусь богом, вы потеряли время! Идемте, я вас познакомлю. Это Билл Бент. Это Джерри…
И в следующее мгновение я пожимал руки торговцам; я узнал, что мой новый друг Сент-Врейн из их числа.
– Это первый звонок? – спросил один из них, когда в галерее прозвучал громкий удар гонга.
– Да, – ответил Бент, взглянув на свои часы. – Как раз время ликера. Пошли?
Бент направился в салун, мы все за ним.
Начиналась весна, и появились листки молодой мяты; по-видимому, этот ботанический факт был хорошо известен моим новым знакомым, потому что все они заказали «мятный сироп»[3]. Пока этот напиток готовили, пока мы его пили, второй удар гонга позвал всех на обед.
– Пообедайте с нами, мистер Халлер, – пригласил Бент. – Мне жаль, что я не познакомился с вами раньше. Вам бы не было так одиноко.
Говоря это, он направился в зал ресторана в сопровождении товарищей и меня самого.
Не стоит описывать обед у «Планерса», со стейками из оленины, с языком бизона, с «цыплятами прерий» и деликатесным гарниром из лягушечьих лапок с юга Иллинойса. Нет, я не стану описывать этот обед, а вот то, что за ним последовало, боюсь, должен описать.
Мы сидели за столом, пока не остались одни. Скатерть убрали, и мы курили «регалии»[4] и пили мадеру по двенадцать долларов за бутылку! Мадеру заказал кто-то один, и не одну бутылку, а целые полдюжины. Это я помню хорошо; помню также, что, когда вынимал винную карточку или карандаш, все это у меня отнимали.
Помню, как слушал рассказы о приключениях среди павни, команчей и блекфутов; меня все это очень заинтересовало, и я с энтузиазмом думал о жизни в прериях. Потом кто-то спросил меня, не хочу ли я присоединиться к их поездке. После чего я произнес речь, в которой предложил сопровождать своих новых знакомых в их следующей экспедиции; затем Сент-Врейн сказал, что я как раз такой человек, который способен жить их жизнью; это мне чрезвычайно польстило. Кто-то запел под гитару испанскую песню; кто-то стал танцевать индейский военный танец; потом мы все встали и хором спели «Знамя, усыпанное звездами»[5], и после этого до следующего утра я уже ничего не помню. Проснулся я с сильной головной болью.
У меня не было времени, чтобы подумать о глупостях предыдущего вечера: распахнулась дверь, вошли Сент-Врейн и с полдюжины моих вчерашних собутыльников. За ними шел официант, который нес несколько больших стаканов с жидкостью светло-янтарного цвета и льдом.
– «Мятный сироп», мистер Халлер, – сказал один из вошедших, – для вас сейчас это лучшее лекарство. Выпейте, мой мальчик. Быстрей, чем прыжок белки, придете в себя.
Я послушался и выпил освежающий напиток.
– Теперь, мой дорогой друг, – сказал Сент-Врейн, – вы почувствуете себя на сто процентов лучше. Но скажите, вы серьезно говорили, что хотите отправиться с нами? Мы отправляемся через неделю. Мне было бы жаль расстаться с вами так скоро.
– Я говорил совершенно серьезно. Я поеду с вами, если вы скажете, как мне нужно подготовиться.
– Нет ничего проще. Купите лошадь.
– У меня есть лошадь.
– Тогда немного прочной одежды, ружье, пара пистолетов…
– Стойте, стойте! Все это у меня есть. Я говорил не об этом. Вы, джентльмены, везете товары в Санта-Фе. Вы удваиваете и утраиваете деньги за них. У меня здесь в банке десять тысяч долларов. Что помешает мне соединить прибыль с удовольствием и вложить свои деньги в товары, как это делаете вы?
– Ничего, ничего! Отличная мысль, – сказали несколько из них.
– Ну, тогда, если вы будете так добры и подскажете, какие товары я должен купить для рынка в Санта-Фе, я оплачу стоимость вин за ужином; думаю, не такая уж малая сумма получится.
Люди прерий громко рассмеялись и заявили, что отправятся вместе со мной закупать товары; и после завтрака мы пошли все вместе.
Еще до ужина я вложил почти свои средства в печатный ситец, ножи с длинными лезвиями и бинокли; осталось лишь немного денег, чтобы купить фургон и нанять погонщиков в Индепенденсе, откуда мы выступим на «равнины».
Несколько дней спустя со своими новыми спутниками я плыл на пароходе вверх по Миссури по пути в бездорожные прерии Дальнего Запада.
Глава третья
Лихорадка прерий[6]
После недели, проведенной в Индепенденсе и занятой покупкой мулов и фургонов, мы выступили на равнины. В нашем «караване» было около ста фургонов и почти вдвое больше погонщиков и слуг. Мои товары поместились в два просторных фургона, и, чтобы управляться с ними, я нанял двух долговязых длинноволосых уроженцев штата Миссури. Нанял я еще канадского путешественника по имени Годé – на роль одновременно товарища и слуги.
Куда делись лощеные джентльмены из «Отеля Плантерс»? Можно было бы подумать, что они остались позади; здесь только люди в охотничьей одежде и фетровых шляпах. Да, но под этими шляпами мы узнаем те же лица, а под грубой одеждой – тех же жизнерадостных и общительных друзей. Черные шелковые костюмы и бриллианты исчезли, потому что сейчас торговцы переоделись в одежду для прерий. Я попытаюсь дать вам представление о том, как выглядят мои товарищи, описав себя самого, потому что я одет точно так же, как остальные.
На мне охотничья куртка из оленьей кожи. Из всего, о чем я могу подумать, эта куртка больше всего напоминает древнюю тунику. Она светло-желтая, прекрасно сшитая и украшенная вышитыми узорами; а капюшон – у куртки есть и капюшон – оторочен полосками той же кожи. Рубашка имеет такие же украшения, полосок много и они висят низко. Ноги от бедер защищены лосинами из алой ткани, под ними крепкие джинсовые панталоны, тяжелые сапоги и большие медные шпоры. Цветная рубашка из хлопка, синий шейный платок и широкополая гуаякильская шляпа завершают мой повседневный костюм. За мной на седле можно увидеть ярко-красный предмет, свернутый в форме цилиндра. Это макино[7], моя любимая принадлежность, потому что ночью это моя постель, а в других случаях – плащ. Посредине макино небольшой разрез, через который я продеваю голову в холод или дождь; я укрыт до самых ног.
Как я сказал, мои товарищи по путешествию одеты так же. Может быть различие в цвете одеяла или леггинсов, рубашка может быть из другого материала; но то, что я описал, можно назвать «характерным костюмом».
У всех примерно одинаковое вооружение и снаряжение. Что касается меня самого, то могу сказать, что я «вооружен до зубов». В кобурах у меня два больших револьвера «кольт», на шесть патронов каждый. На поясе еще пара пистолетов поменьше, каждый на пять выстрелов. Вдобавок у меня легкое ружье; всего, таким образом, получается двадцать три патрона, и я научился выстреливать их такое же количество за несколько секунд. А если все это подведет, у меня на поясе длинный сверкающий охотничий нож. Он служит мне на охоте и за обедом – короче говоря, нож для всех надобностей. В качестве снаряжения у меня сумка и фляжка, обе висят под правой рукой. Есть также фляжка из тыквы и рюкзак с продовольствием. То же самое есть у всех моих спутников.
А вот верховые животные у нас разные. Некоторые едут на оседланных мулах, другие – на мустангах, а некоторые взяли с собой своих любимых американских лошадей. Я как раз из их числа. Я сижу верхом на темно-коричневом жеребце с черными ногами и мордой, как высохший папоротник. Это наполовину арабская лошадь, и у нее прекрасные пропорции. Моего жеребца зовут Моро, эту испанскую кличку дал ему плантатор из Луизианы, у которого я его купил; что значит эта кличка, так и не знаю. Я принял эту кличку, и он на нее отзывается. Моро силен, быстр и красив. Многие спутники высоко оценили его достоинства и предлагали хорошую цену, но меня она не искушала, потому что Моро хорошо служил мне. Мой пес Альп, сенбернар по породе, которого я купил у швейцарского эмигранта в Сент-Луисе, тоже служит мне, и я к нему привязался.
Обратившись к своим записным книжкам, я обнаруживаю, что мы неделями ехали по прерии без всяких происшествий. Для меня сама окружающая местность была интересна; не могу вспомнить более поразительной картины, чем длинный караван фургонов, этих «кораблей прерий», растянувшийся по равнине или поднимающийся по мягкому склону; белые крыши фургонов выделяются на фоне зеленой поверхности земли. Живописную картину представляет и наш лагерь по ночам, в коррале фургонов, с привязанными вокруг лошадьми. Местность тоже была для меня новой и поражала меня своеобразием. Вдоль ручьев рощи высоких тополей, чьи подобные колоннам стволы поддерживают огромные кроны из серебристых листьев. Эти рощи, встречаясь на удалении, образуют своего рода стены, отделяя одну часть прерии от другой, так что кажется, будто мы едем по просторным полям, окруженным гигантскими изгородями.
Мы пересекли много рек, некоторые переходили вброд, на других, более глубоких и быстрых, переправляли фургоны на плотах. Изредка видели оленей и антилоп, и наши охотники застрелили несколько животных; но до земли бизонов мы еще не дошли. Однажды мы на день остановились в лесистой низине, где было много травы и чистая вода. Время от времени приходилось останавливаться, чтобы починить сломанное дышло или ось или вытащить фургон, застрявший в болоте.
На этом участке пути у меня не было никаких неприятностей. Помощники из Миссури оказались хорошими работниками, они помогали друг другу, так что из-за каждого небольшого случая не приходилось делать отчаянные усилия.
Трава высокая и сочная, наши мулы и быки не худели, а с каждым днем поправлялись. Моро приобрел отличную форму; я кормил его кукурузой, которую вез в фургоне.
Приближаясь к Арканзасу, мы видели конных индейцев, исчезавших среди холмов. Эти были индейцы племени павни; в течение нескольких дней группы этих смуглых воинов сопровождали караван. Но они знали нашу силу и держались на большом расстоянии от наших длинных ружей.
Мне каждый день приносил что-нибудь новое: либо в инцидентах путешествия, либо в особенностях природы.
Годе, который был по очереди и путешественником, и охотником, и канадским траппером, во время наших разговоров учил меня жизни в прериях и помог стать весьма уважаемой фигурой среди моих новых товарищей. Сент-Врейн, чьи щедрость и великодушие вызвали мое доверие, также не жалел усилий, чтобы облегчить мне путь. Дневные поездки и удивительные рассказы у костра по ночам привели к тому, что я заразился романтикой новой жизни. Я подхватил лихорадку прерий.
Так со смехом сказали мне товарищи. Вначале я их не понял. Но впоследствии мне стало ясно, о чем они говорили. Лихорадка прерий! Да. Я заболел этой необычной болезнью. И она быстро овладевала мной. Мечты о доме оставили меня; а с ними и многие молодые и глупые амбиции. Ушли, умерли в сердце соблазны большого города, воспоминания о мягких глазах и шелковых прядях, впечатления от любовных эмоций, врагов счастья человека; все это умерло, словно никогда и не было, словно я никогда ничего такого не испытывал.
Я стал сильней – физически и интеллектуально. Я испытывал подъем духа, сильней и энергичней становилось тело. Раньше я никогда такого не испытывал. Я наслаждался действиями. Кровь как будто стала теплей и быстрей бежала по жилам; мне казалось, что я вижу дальше; я мог смотреть на солнце, не отводя взгляда.
Упивался ли я божественной сутью жизни, оказавшись в этом обширном пустом пространстве?
Кто может ответить на этот вопрос?
Лихорадка прерий; я чувствую ее и сейчас! Я записываю эти воспоминания, и руки мои тянутся к поводу, ноги стремятся сжать бока моей благородной лошади и снова бродить по зеленым волнам моря прерий!
Глава четвертая
Верхом на бизоне
Мы были в пути уже около двух недель, когда достигли поворота на Арканзас примерно в шести милях от гор Плам Баттс[8]. Здесь мы расположили фургоны корралем[9] и разбили лагерь.
До сих мы почти не встречали бизонов; только одиноких быков или двух-трех, всегда очень пугливых и настороженных. Был сезон течки, но нам не попалось ни одно стадо этих обезумевших от любви животных.
– Вон там! – воскликнул Сент-Врейн. – Свежий горб на ужин!
Мы посмотрели на северо-запад, куда показал наш друг. Вдоль небольшого возвышения на низком плато линию горизонта прерывали пять темных предметов. Одного взгляда было достаточно: это бизоны.
Когда заговорил Сент-Врейн, мы снимали седла. Снова со щелканьем застегнулись пряжки, опустились стремена, мы снова сели верхом и поскакали.
Нас было человек десять; одни, как я, хотели только поохотиться и развлечься, у других в глазах было «мясо».
В этот день переход был небольшим, лошади еще свежие, и за несколько минут три мили, отделявшие нас от добычи, сократились до одной. Но тут нам не повезло. Некоторые из нас, новички, как и я, не прислушались к совету и продолжали скакать вперед, и ветер донес наш запах до бизонов. Когда оставалась миля, один из бизонов поднял волосатую переднюю часть тела, ударил о землю копытами, покатился по земле, снова встал и на всей скорости побежал; остальные последовали за ним.
Нам оставалось либо отказаться от охоты, либо напрячь лошадей и догонять. Решили догонять, и мы поскакали вперед. И неожиданно перед нами появилось что-то вроде стены из глины высотой в шесть футов. Это была как бы ступенька между двумя пологими участками, и она уходила направо и налево, насколько хватал глаз. Никакого прохода в ней не было видно.
Это препятствие заставило нас натянуть поводья и задуматься. Некоторые повернули лошадей и поскакали назад, другие, всего с полдюжины, включая Сент-Врейна и моего спутника Годе, не хотели так легко отказываться от добычи, пришпорили лошадей и поднялись на откос.
Отсюда нам пришлось проскакать еще пять миль, наши лошади были в мыле, и только тут мы догнали бежавшую последней молодую самку, которая упала, пораженная пулями всех участников погони.
Остальные бизоны убежали далеко, мяса у нас было достаточно, поэтому мы остановились, спешились и принялись «снимать скальп». Под искусными ножами охотников эта операция длилась недолго. Теперь мы смогли оглянуться и подумать, как далеко уехали от лагеря.
– Восемь миль, каждый дюйм! – воскликнул один из нас.
– Мы вблизи дороги, – сказал Сент-Врейн, показывая на следы от колес фургона, обозначавшие маршрут торговцев Санта-Фе.
– И что?
– Если поедем назад в лагерь, утром все равно придется сюда возвращаться. Это лишних шестнадцать миль для наших лошадей.
– Верно.
– Давайте останемся здесь. Здесь есть вода и трава. Есть мясо бизона, а вон там много дров для костра. У нас с собой одеяла, что еще нам нужно?
– Я говорю: разобьем лагерь прямо здесь.
– И я.
– И я.
Через минуту пряжки седел были расстегнуты, седла сняты, и лошади, тяжело дыша, уже щипали, куда могли дотянуться, траву прерий.
Хрустальный ручей, арройо, по-испански, тек на юг в сторону Арканзаса. На его берегу под одним утесом мы выбрали место для лагеря. Лагерь разбили, костер разожгли, и скоро на прутьях шипели «стейки с горба». К счастью, у нас с Сент-Врейном оказались с собой фляжки; каждый получил пинту чистого коньяка, и ужин получился вполне удовлетворительный. У старых охотников были с собой трубки и табак, мы с моим другом закурили сигары, и все мы допоздна сидели у костра, курили и слушали рассказы о необыкновенных приключениях в горах.
Прошло несколько часов, лариаты[10] укоротили, колышки, к которым они были привязаны, вбили в землю, и мои друзья завернулись в одеяла, положили головы на седла и легли спать.
В нашей группе был человек по имени Гиббетс, который из-за своей сонливости был прозван «Сонная голова». Поэтому ему отвели первую вахту: она наименее опасная, потому что индейцы нападают в часы самого крепкого сна, перед рассветом.
Гиббетс забрался на вершину утеса, откуда мог видеть окрестные прерии.
Еще до наступления ночи я заметил очень красивое место на берегу арройо, примерно в двухстах ярдах от лагеря, где спали мои товарищи. Мне неожиданно пришло в голову, что я могу лечь там; взяв с собой ружье, накидку и одеяло, попросив «Сонную голову» разбудить меня в случае тревоги, я направился туда.
Земля, постепенно спускавшаяся к ручью, поросла мягкой бизоньей травой, сухой и густой: лучшей постели не было ни у одного смертного. Разложив на траве накидку, укрывшись одеялом, я лег с сигарой во рту, чтобы докурить ее до конца и уснуть.
Ночь была лунная, чистая и такая ясная, что я легко различал окраску цветов прерии: серебро молочая, золото подсолнечников и алые цветы мальвы, которые росли у моих ног на берегу ручья. Тишину лишь иногда нарушают вой волка прерий, далекий храп моих спутников и «кроп-кроп» лошадей, срывающих траву.
Какое-то время я лежал без сна, пока сигара не начала обжигать губы (в прериях мы докуриваем сигары до конца); потом, выплюнув окурок, я лег на бок и вскоре перенесся в страну снов.
Я не проспал и нескольких минут, как проснулся от странного звука, похожего на далекий гром или на рев водопада. Земля подо мной задрожала.
– Похоже, будет гроза, – подумал я, все еще не проснувшись окончательно и не вполне воспринимая окружающее. Плотнее завернувшись в одеяло, я снова уснул.
Разбудил меня звук, поистине подобный грому: топот тысяч копыт и мычание тысяч быков! Земля дрожала, отовсюду доносилось эхо. Я слышал крики товарищей, голоса Сент-Врейна и Годе; канадец кричал:
– Sacr-r-re! moncieur! prenez garde des buffles![11]
Я видел, что мои спутники уводят лошадей к утесу.
Я вскочил, отбросив одеяло. Страшное зрелище предстало передо мной. На запад, насколько хватал глаз, все прерия как будто двигалась. Чернее волны катились над извивающимися возвышениями, словно какие-то огнедышащие горы льют на равнину лаву. Вдоль движущейся поверхности сверкали тысячи ярких пятен, как струи огня. Земля тряслась, люди кричали, лошади натягивали веревки и дико ржали. Мой пес лаял и рычал, бегая вокруг меня!
На мгновение я подумал, что мне это снится, но нет, сцена была слишком реальна, чтобы принять ее за сон. Черная волна была уже в десяти шагах от меня и продолжала приближаться. И только тут я узнал волосатые горбы и горящие глаза бизонов!
– Боже, я у них на пути! Они меня затопчут насмерть!
Слишком поздно пытаться убежать. Я схватил ружье и выстрелил в приближающееся стадо. Результаты выстрела не были заметны. Вода ручья брызнула мне в лицо. Огромный бык, бежавший впереди, яростно фыркая, бросился в ручей, перебрался через него и начал пониматься по склону. Меня подхватило и подбросило высоко в воздух. Я полетел назад и упал на движущуюся массу. Я не был ни ранен, ни ошеломлен. Меня несли спины нескольких животных; в стаде они бежали вплотную друг к другу. Испуганные неожиданной ношей, они громко заревели и продолжали бежать. Мне пришла в голову неожиданная мысль; вцепившись в то животное, которое больше других было подо мной, я опустил ноги по его бокам, обхватил горб и вцепился руками в длинные волосы, которые росли у него на шее. Бык дрожал от ужаса; он бросился вперед и вскоре бежал перед всем стадом.
Именно это мне было нужно, и мы понеслись по прерии, бык бежал на предельной скорости, несомненно, думая, что ему в спину вцепилась пантера или леопард.
У меня не было желания разуверять его, и, чтобы он не считал меня совсем безвредным и не останавливался, я достал свой длинный нож, который оказался под рукой, и колол его, когда он начинал замедлять бег. При каждом уколе «шпоры» он ревел и с удвоенной скоростью бросался вперед.
Мне по-прежнему грозила большая опасность. Стадо за мной двигалось огромной волной с передним фронтом шириной в милю. Если бы бык остановился и оставил меня в прерии, уйти я не мог.
Несмотря на опасность, я не мог удержаться и смеялся над своим нелепым положением. Я словно смотрел хорошую комедию.
Мы пробежали прямо через поселок луговых собачек. Я думал, что бык здесь повернет в сторону. Эта мысль заставила меня перестать смеяться, но бизоны обычно бегут по прямой, и мой не стал исключением. Он продолжал бежать, погружаясь по колени, поднимая столбы пыли над коническими холмиками с норами и продолжая реветь от гнева и ужаса.
Плам Баттс были прямо перед нами. Я видел это с самого начала и подумал, что, если доберусь до них, буду в безопасности. Эти горы начинались примерно в трех милях от нашего лагеря, но во время бега мне казалось, что до них не меньше десяти миль.
Небольшая вершина стояла в прериях в нескольких сотнях ярдов от основного хребта. На последнем участке бегства я уколами ножа направлял к ней быка, и мы оказались в ста ярдах у основания.
Пора было расставаться с моим черным спутником. Я мог убить его, свесившись с бока.
Оторвавшись от густых волос, я соскользнул с хвоста и, даже не попрощавшись, изо всех сил побежал к холму. Я вскарабкался на него и сел на камень, глядя на прерии.
Луна по-прежнему ярко светила. Мой спутник остановился недалеко от того места, где я его оставил, и оглядывался с видом крайнего удивления. Он выглядел так комично, что я рассмеялся, сидя в безопасности.
Я посмотрел на юго-запад. Насколько хватал глаз, прерия была черной и двигалась. Живая волна катилась вперед ко мне, но теперь я наблюдал за ней с безопасного места. Мириады сверкающих глаз, ярких, как горящий фосфор, больше не вызывали у меня ужас.
Стадо было еще в полумиле. Мне показалось, что я вижу слева вспышки и слышу выстрелы, но я не был в этом уверен. Я начал думать о судьбе товарищей, и эти звуки вселили в меня надежду на то, что они в безопасности.
Бизоны приблизились к холму, на котором я сидел и, увидев препятствие, разделись на два широких пояса, слева и справа огибая холм. Мне показалось любопытным, что мой бык, мой личный бык не стал ждать, пока подойдут другие, а неожиданно поднял голову и поскакал в сторону, словно за ним гналась стая волков. Он бежал к краю пояса. И когда убежал с пути стада, я увидел, что он сбоку присоединился к нему и побежал вместе с остальными.
Сначала такая необычная тактика моего спутника меня удивила, но потом я понял, что с его стороны это было самое разумное поведение. Если бы он остался там, где я его оставил, передние быки приняли бы его за представителя какого-то другого племени и растоптали бы насмерть.
Я просидел на камне почти два часа, молча глядя на то, как мимо меня несется черный поток. Я находился на острове посреди черного блестящего моря. Однажды мне показалось, что я движусь, что мой холм устремился вперед, а бизоны стоят неподвижно. Голова закружилась, и я вскочил, чтобы отогнать эту необычную иллюзию.
Поток продолжал катиться, и наконец пронеслись самые последние животные. Я спустился с холма и пошел по черной взрыхленной земле. То, что недавно было зеленым лугом, стало походить на свежевспаханную землю, истоптанную копытами быков.
Мимо пробежало стадо диких животных, похожих на стадо овец. Это были волки, гнавшие стадо.
Я продолжал идти на юг. Наконец услышал голоса и увидел в лунном свете нескольких всадников, галопом скачущих по равнине. Я закричал. Мне ответили, и ко мне подскакал один из всадников. Это был Сент-Врейн.
– Да благословит меня господь, да это Халлер! – Он наклонился в седле, чтобы лучше рассмотреть меня. – Это вы или ваш призрак? Как я сижу здесь, передо мной живой человек?
– Да, и никогда не был в лучшей форме, – ответил я.
– Но откуда вы взялись? С облаков? С неба? Откуда?
Его вопросы повторяли остальные; все пожимали мне руки, словно целый год не видели.
Больше всего в группе удивился Годе.
– Mon Dieu, растоптан миллионом быков. Ну и утро!
– Мы искали ваше тело, точнее его фрагменты, – сказал Сент-Врейн. – Обыскивали каждый фут в прериях на милю вокруг и едва не пришли к мысли, что свирепые быки вас сожрали!
– Сожрали мсье? Да его и миллион быков не съест! Mon Dieu! Ха, Сонная голова, будь вы прокляты!
Это восклицание канадца было адресовано Гиббетсу, который не предупредил моих товарищей о том, где я лежу, и тем подверг меня опасности.
– Мы видели, как вас подбросило в воздух и вы упали им на спины, – продолжал Сент-Врейн. – Тогда мы, конечно, решили, что вы погибли. Но как, во имя неба, вы уцелели?
Я рассказал о своих приключениях удивленным товарищам.
– Par Dieu! – воскликнул Годе. – Un garson tres bizarre: une adventure tres-marveilleuse![12]
После этого приключения на меня стали смотреть как на своего человека в прериях.
Мои товарищи хорошо поработали, о чем свидетельствовала лежащая на земле дюжина туш. Нашли мое ружье и одеяло, втоптанное в землю.
У Сент-Врейна еще оставалось несколько капель в фляжке; выпив их и снова поставив караульного, мы вернулись на свои ложа и легли спать.
Глава пятая
Неприятное происшествие
Через несколько дней мне выпало еще одно «приключение», и я начал думать, что мне суждено стать героем прерий.
Небольшая группа торговцев, я был среди них, опередила караван. Мы должны были прибыть в Санта-Фе на день или два раньше, чем фургоны, чтобы получить у губернатора разрешение на въезд в город. Мы ехали маршрутом вдоль Симмарона[13]
Наша дорога на сотню миль пролегала по голой пустыне без дичи и почти без воды. Бизоны исчезли, олени попадались очень редко. Приходилось удовлетворяться сушеным мясом, которое мы привезли с собой из города. Мы были в пустыне, заросшей полынью. Время от времени вдали пробегали отдельные антилопы, но они были далеко за пределами дальности выстрела. И казались необыкновенно осторожными.
На третий после того, как оставили караван, мы приближались к реке Симмарон, и мне показалось что я видел на возвышении в прериях рогатую голову. Мои товарищи отнеслись к этому скептически, никто не хотел ехать со мной, поэтому я свернул с дороги и поехал один. Один из моих спутников – Годе остался в караване – присматривал за моей собакой, которую я не захотел брать с собой, чтобы она не спугнула антилоп. Моя лошадь была свежая и послушная; повезет мне или нет на охоте, но я знал, что легко догоню товарищей на ночном привале.
Я направился прямо к тому месту, где видел голову. Это место казалось всего в полумиле от дороги. На самом деле было гораздо дальше: обычная иллюзия в кристально прозрачном воздухе горных районов.
Любопытной формы хребет, couteau des prairies.
Глава шестая
Санта-Фе
Мы целую неделю преодолевали Скалистые горы, а потом спустились в долину Дель Норте и прибыли в столицу Нью-Мексико знаменитый город Санта-Фе. На следующий день прибыл и наш караван: на южном маршруте мы только потеряли время, а фургоны через проход Ратон Пасс догнали нас.
Въезд в страну не был связан с трудностями, потому что мы заплатили налог по пятьсот долларов с каждого фургона. Налог был больше обычного, но торговцы согласились его заплатить.
Санта-Фе – перевалочный пункт всей провинции и главный торговый центр. Здесь мы остановились, разбив лагерь в стенах города.
Сент-Врейн и еще несколько proprietaries[14], включая меня, поселились в «Фонде» и здесь с помощью сверкающего вина «эль пасо» постарались забыть трудности прохода через прерии.
Вечером в день прибытия мы пировали и веселились.
Утром на следующий день меня разбудил Годе; он появился в отличном расположении духа, распевая песню канадских лодочников.
Увидев, что я не сплю, он весело заговорил:
– Ах, мсье, сегодня вечером будет большой праздник, бал, танцы, которые мексиканцы называют фанданго. Tres bien, мсье! Вы получите большое удовольствие, танцуя с мексиканскими девушками.
– Нет, Годе. Мои соотечественники не так любят танцевать, как ваши.
– C’est vrai[15], но фанданго особый танец. Вы увидите много па разных танцев. Болеро, вальс, все перемешано. Идите, мсье, вы увидите очень много красивых девушек в очень коротких… как же вы, американцы, их называете?
Я не понял, о чем он говорит.
– Cela[16], мсье. – Он приподнял подол своей кожаной охотничьей рубашки. – Par Dieu! Понял! Юбочка, короткие юбочки. Клянусь богом, вы их увидите на танцующих фанданго.
- Девушки из Дуранго
- Будут со мной танцевать,
- Прыгать до самого неба
- В фанданго, в фанданго…
А вот и мсье Сент-Врейн! Ecoutez![17] Он никогда не был на фанданго. Sacre! Как мсье танцует! Как балетмейстер! Как чистокровный француз.
– Годе!
– Да, мсье?
– Бегите в кантину[18] и, умоляю, возьмите взаймы, купите или украдите бутылку лучшего «пасо».
– Можно украсть, мсье Сент-Врейн? – с понимающей улыбкой спросил Годе.
– Нет, старый канадский воришка. Заплатите за вино. Вот деньги. Лучшее «пасо», слышали? Холодное и сверкающее. Идите! Бонжур, мой дорогой всадник на бизонах! Вижу, вы еще в постели.
– Голова болит, словно ее раскололи.
– Ха, ха, ха! Моя тоже. Но Годе отправился за лекарством. Это лучшее средство от похмелья. Вставайте!
– Подождите, пока я выпью ваше лекарство.
– Хорошо, вы почувствуете себя лучше. Я говорю: городская жизнь нам не подходит.
– Вы называете это городом?
– Да, в этих краях его называют la ciudad de Santa Fe[19]; знаменитый город Санта-Фе, столица Nuevo Mexico, метрополис прерий, рай торговцев, трапперов и воров!
– И это весь прогресс за триста лет? Да ведь эти люди едва прошли первые ступни цивилизации.
– Лучше сказать, что они проходят ее последние ступени. Здесь, в этом далеком оазисе, вы найдете живопись, поэзию, танцы, театры и музыку, праздники и фейерверки – все то, что характеризует упадок нации. Вы встретите многочисленных Дон Кихотов, soi-disant[20] странствующих рыцарей, Ромео без сердца и бандитов без храбрости. Вы встретите очень многое, прежде чем столкнетесь с добродетелью или честностью. Ло! Мучачо!
– Да, синьор?
– Кофе есть?
– Si, сеньор.
– Принеси dos taxas[21], слышишь? И быстро. Aprisa, aprisa!
– Si, сеньор.
– Ха, а вот и путешественник канадец! Ну, старина с северо-запада, принесли вино?
– Замечательное вино, мсье Сент-Врейн, почти равное винам Франции.
– Он прав, Халлер! Ц-ц! Вино восхитительное, могли бы вы сказать, добрый Годе. Ц-ц! Пейте! Почувствуйте аромат, попробуйте вкус. Вы почувствуете себя сильным, как бизон. Смотрите, как оно пузырится! Как Fontaine-qui-bowille![22]
– Да, мсье, точно как Fontaine-qui-bowille.
– Пейте, пейте! Не бойтесь, чистый виноградный сок. Почувствуйте его букет! Боже, какое вино янки будут когда-нибудь получать из винограда Нью-Мексико!
– Что? Вы считаете, что янки поглядывают на эту местность?
– Думаю? Да я это знаю! Да и зачем эти людишки? Только загромождают землю. Ну, парень, ты принес нам кофе?
– Да, сеньор.
– Возьмите, попробуйте немного. Это поможет вам держаться на ногах. Здесь умеют варить кофе, надо признать. Для этого нужны испанцы.
– А что такое фанданго, о котором говорил Голе?
– А, правда. Сегодня вечером будет такое. Вы, конечно, пойдете?
– Только из любопытства.
– Хорошо. Ваше любопытство будет удовлетворено. Этот горячий пыхтящий тип губернатор почтит бал своим присутствием; говорят, его красавица сеньора тоже будет, но я в это не верю.
– Почему?
– Он слишком боится, что один из диких американцев посадит ее на свое седло. В этой долине такое уже бывало. Клянусь святой Марией, она замечательно выглядит, – продолжал свой монолог Сент-Врейн, – и я знаю человека… только подумайте, этот проклятый старый тиран!
– О чем вы?
– Как он нас выпотрошил. По пятьсот долларов за фургон, сто фургонов – получается пятьдесят тысяч долларов!
– Неужели он все заберет себе? А как же правительство…
– Правительство! Нет, оно не получит ни цента! Он здесь губернатор, получит этот очередной взнос и будет править железной рукой. Бедняги!
– Но ведь его здесь ненавидят?
– Его и всех его людей. Бог видит, у них есть на это основания.
– Странно, что они не восстают.
– Иногда восстают, но что могут сделать эти бедняги? Как все истинные тираны, он разобщил их, заставляет ненавидеть друг друга.
– Но у него, кажется, нет большой армии, нет телохранителей…
– Телохранители! – воскликнул Сент-Врейн, прерывая меня. – Только посмотрите! Вон его телохранители!
– Индейские головорезы! Навахо! – одновременно с ним воскликнул Годе.
Я посмотрел на улицу. Мимо проходили с полдюжины высоких дикарей, завернувшихся в серапе[23]. Дикая голодная наружность, медленная гордая походка сразу отличали их от индейцев пуэбло, которые черпают воду и рубят дрова.
– Это навахо? – спросил я.
– Да, мсье, да, – ответил Годе возбужденно. – Sacre Dieu! Навахо! Проклятые навахо!
– Точно они, – добавил Сент-Врейн.
– Но ведь навахо заклятые враги жителей Нью Мексико. Как они могут здесь оказаться? Они пленники?
– Разве они похожи на пленников?
Ни во внешности, ни в поведении ничего не говорит о том, что они пленники. Они гордо шли по улице, изредка презрительно и высокомерно поглядывая на прохожих.
– Но почему они здесь? Их земля далеко на западе.
– Это одна из тайн Нуэво Мексико, о которой я вам расскажу как-нибудь в другое время. Сейчас их защищает мирный договор, который останавливает их только до тех, пока это им удобно. Сейчас они здесь так же свободны, как вы и я; на самом деле они гораздо свободней. Я не удивлюсь, если вечером мы встретим их на фанданго.
– Я слышал, что навахо каннибалы.
– Это правда. Посмотрите сейчас на них. Видите, как они смотрят на этого круглолицего малыша, который, кажется, инстинктивно их боится. К счастью для этого мальчишки, сейчас день, иначе его могли бы унести под одним из этих одеял.
– Вы серьезно, Сент-Врейн?
– Клянусь, я не шучу! Если не ошибаюсь, опыт Годе может подтвердить мои слова. А, путешественник?
– Совершенно верно, мсье. Я был пленником этого народа; не навахо, а проклятых апачей, ну, почти то же самое. Сам был свидетелем, как эти дикари сожрали… съели … одного… двух… трех … малышей, как мясо бизонов. Верно, мсье, верно.
– Это правда. Навахо и апачи во время набегов на эту долину похищают детей. И те, кто знает, говорят, что именно так большинство их используют. То ли как жертву своему богу Кецалькоатлю, то ли из любви к человеческому мясу, никто не может сказать. На самом деле, хоть они близко, о них мало что известно. Мало кому из тех, кто к ним попадает, везет так, как Годе; мало кто возвращается. Отсюда ни один человек еще не смог преодолеть западную сьерру.
– А как вы, мсье Годе, смогли спасти свой скальп?
– Pourquoi, мсье, у меня его нет. У меня нет прически. То, что янки называют волосами, изготовил цирюльник в Сент-Луисе. Voila, мсье!
Говоря это, Годе снял шляпу, а вместе с ней свои прекрасные вьющиеся волосы, которые оказались париком!
– Как по-вашему, мсье, – со смехом воскликнул Годе, – как дикари могут снять с меня скальп? Проклятым индейцам не за что держаться. Sacr-r-r!
Мы с Сент-Врейном не могли удержаться от смеха, видя, как комично изменилась наружность канадца.
– Слушайте, Годе! После этого вы должны выпить. Вот, пейте!
– Tres-oblige, мсье Сент–Врейн! Je vous remercie.
И вечно жаждущий путешественник стал пить вино, как свежее молоко.
– Идемте, Халлер. Нам нужно пойти к фургонам. Сначала бизнес, потом удовольствия, какое можно здесь найти за короткое пребывание. Но в Чихуахуа нам будет весело.
– Вы считаете, что мы туда отправимся?
– Несомненно. Здесь не нужна и четвертая часть нашего товара. Мы должны отвезти его на главный рынок. Идемте в лагерь. Allons![24]
Глава седьмая
Фанданго
Вечером Я сидел в своем номере, ожидая Сент-Врейна.
Снаружи донесся его голос:
- – Девушки из Дуранго
- Будут со мной танцевать,
- Прыгать…
– Вы готовы, мой смелый всадник?
– Не совсем. Посидите минуту и подождите.
– Поторапливайтесь, танцы уже начались. Я проходил мимо. Это что, ваш бальный костюм? Ха-ха-ха! – захохотал Сент-Врейн, видя, что я достаю синий пиджак и темные брюки в относительно приличном состоянии.
– Да, – ответил я, посмотрев на него. – А что в нем плохого? Но неужели это ваш бальный наряд?
Мой друг совсем не переоделся. Охотничья рубашка с бахромой, леггинсы, пояс, длинный нож и пистолеты – все это было передо мной.
– Да, мой денди, это и есть мой бальный наряд; и ничего другого; и если хотите прислушаться к моему совету, надевайте то, что носили в пути. Как будут выглядеть ваш широкий пояс и нож на синем пиджаке? Ха-ха-ха!
– Но зачем брать с собой пояс и нож? Вы ведь не пойдете на бал с пистолетами, прицепленными к поясу?
– А как по-вашему, я их понесу? В руках?
– Оставьте их здесь.
– Ха-ха-ха! Это было бы очень рискованно. Нет, нет. Обжегся на молоке – дуй на воду. Никто не пойдет на фанданго в Санта-Фе без шестизарядного пистолета. Идемте. Надевайте рубашку, оставьте все это и застегните пояс с пистолетами. Вот это настоящий бальный костюм в здешних краях.
– Если вы заверяете меня, что такой костюм не будет неприличным, я согласен.
– Вот синий пиджак с длинными фалдами был бы неприличным, уверяю вас.
Синий пиджак с длинными фалдами вернулся в мой чемодан.
Сент-Врейн был прав. Придя в помещение для танцев – большой зал вблизи площади, мы обнаружили в нем множество охотников, трапперов, торговцев и возчиков, все они были в своей обычной одежде. С ними смешивались пять-шесть десятков «местных» и такое же количество сеньорит, все в обычной для поблано одежде, все относятся к «низшему» классу. Но это единственный класс, который можно встретить в Санта-Фе.
Когда мы вошли, большинство мужчин сняли свои серапе, чтобы танцевать, и демонстрировали все разновидности вышитого вельвета, тисненой кожи и блестящих шляп. Женщины выглядели не менее живописно в своих ярких нижних юбках, белоснежных шемизетках и маленьких сатиновых туфельках. Некоторые были в костюмах для польки, потому что даже до этих далеких краев дошел знаменитый танец. «Слышали об электрическом телеграфе?» – «Нет, сеньор». – «Знаете, что такое железная дорога?» – «А что это, сеньор?» – «А полька?» – «А, сеньор полька, полька! Замечательный танец! Такой изящный!»
Бальная комната представляла собой длинную салу (зал) с «банкетками» вдоль стен. На банкетках в перерывах между танцами сидели танцующие, курили сигары и болтали. В одном углу с полдюжины сыновей Орфея бренчали на арфе, гитарах и мандолинах, иногда помогая музыке резкими индейскими песнями. В другом углу жаждущим горцам, заполнившим зал восклицаниями, подавали пурос и виски таос.
Были такие сцены, как следующая.
– Эй, моя маленькая мучача! Vamos, vamos на танец. Mucha bueno. Пойдешь?
Это произносит большой грубоватый парень шести с лишним футов ростом, обращаясь к строй маленькой poblana (мексиканке).
– Mucho bueno, Señor Americano! – отвечает дама.
– Ура! Пошли! Или сначала выпьем немного? Ты мне подходишь! Что хочешь выпить? Аквардент или вино?
– Copitita de vino, señor. (Небольшой стакан вина, сеньор.)
– Эй ты, проклятый мексиканец! Быстро давай вино! Ну, вот, моя малышка, за твою удачу и хорошего мужа!
– Gracias, Señor Americano!
– Что? Ты поняла это? Ты так собираешься сделать?
– Si, señor!
– Ура за это!
– Послушай, малышка, а медвежий танец будешь танцевать?
– No entiende.
– Не понимаешь? Вот так.
И неуклюжий охотник начинает скакать перед партнершей, изображая медведя гризли.
– Эй, Билл! – восклицает его товарищ. – Если попадешь в капкан, не обижайся. Как твои почки?
– Я буду раздосадован, Джим, если не добуду эту добычу, – говорит охотник, прикладывая широкую ладонь к сердцу.
– Не запутайся в юбке, парень. Но она хорошая девчонка.
– Очень! Ты только посмотри на ее глаза! И на лодыжки!
– Отличное зрелище, очень красивые ноги.
– Интересно, сколько тот старик за нее возьмет. Мне нужна скво. Не было ни одной с той самой скво кроу в Йелоустоне.
– Ну, парень, ты не среди индейцев. Добейся согласия девчонки, если сможешь, и она будет стоит тебе не больше унции табака.
– Да здравствует Миссури! – кричит возчик.
– Пошли, парни! Покажем, что такое Виргиния! Очистим кухню, старики, молодежь!
– С носка на пятку!
– Виргинцы никогда не устают!
– Viva el gobernador! Viva Armijo! Viva! Viva!
Те, что появились в зале, вызвали сенсацию. Вошел крепкий, толстый, похожий на священника человек, сопровождаемый несколькими другими. Это были губернатор и его свита, несколько хорошо одетых жителей города, несомненно, элита общества Нью-Мексико. Некоторые из пришедших были явно военными, они были в пестрых, ярких и нелепых мундирах; вскоре они уже кружились по залу в вальсе.
– А где сеньора Армихо? – шепотом спросил я у Сент-Врейна.
– Я вам уже говорил. Она не выходит. Оставайтесь здесь, я ненадолго уйду. Найдите себе партнершу и повеселитесь. Скоро вернусь. Оревуар.
И без дальнейших объяснений Сент-Врейн протиснулся через толпу и исчез.
С самого прихода я сидел на банкетке в углу зала, Сент-Врейн сидел рядом с мной. А дальше, рядом с ним, но в тени, мужчина очень своеобразной внешности. Я заметил этого человека, когда мы вошли; видел также, что Сент-Врейн поговорил с ним, но нас не познакомили, а мой друг сидел так, что я не мог заговорить с этим незнакомцем, пока Сент-Врейн не ушел. Теперь мы сидели рядом, и я искоса посматривал на лицо и фигуру незнакомца; они меня заинтересовали. Он не американец, это очевидно по его одежде, но лицо не мексиканца. Для испанца слишком прямые черты лица, хотя кожа смуглая, загорелая. Лицо гладко выбритое, только на подбородке заостренная черная бородка. Глаза, если я верно вижу под свисающим краем шляпы, голубые и спокойные; волосы каштановые и волнистые, с редкими прядями серебра. Это не испанская внешность, тем более не испано-американская, и я бы отнес соседа совсем к другим людям, если бы не удивившая меня одежда. Чисто мексиканский костюм, куртка с пурпурными рукавами с кружевами, кружева на груди и по краям. Куртка закрывает почти все тело, так что я мог смог разглядеть только зеленые бархатные calzoneros[25] с желтыми пуговицами, и в разрезах видны белоснежные calzoneillos[26]. Низ у calzoneros отделан тисненой черной кожей; на ногах желтые сапоги с тяжелыми стальными шпорами. Широкий ремень, идущий от шпор вверх, придает сходство со старинными рыцарями, каких мы видим на картинках. На голове черное широкополое сомбреро с широкой лентой с золотой канителью. С боков шляпы свисает несколько кожаных полосок по моде этой местности.
Я подозревал, что этот человек не зря сидит в тени и спускает шляпу на лицо. Не хочет, чтобы его узнали. И однако он не производит неприятного впечатления. Напротив, лицо у него открытое и приятное; несомненно, в молодости он был красив, но меланхолическое выражение затуманивает это лицо и вызывает на нем морщины. Именно выражение этого лица прежде всего меня поразило, когда я его увидел.
Делая эти наблюдения и искоса поглядывая на него, я обнаружил, что он точно так же смотрит на меня и с таким же, как мой, интересом. Это заставило нас повернуться лицом друг к другу; незнакомец достал из-под куртки маленькую сигару и вежливо предложил мне.
– Quiere a fumar, caballero? (Не хотите ли покурить, сэр?)
– Спасибо, да, – ответил я по-испански, беря сигару.
Мы едва успели закурить, как этот человек повернулся ко мне и задал совершенно неожиданный вопрос:
– Не продадите ли свою лошадь?
– Нет.
– Даже за хорошую цену?
– Ни за какую цену.
– Я бы дал вам за нее пятьсот долларов.
– Я не расстанусь с ней и за вдвое большую сумму.
– Я готов дать вам вдвое больше.
– Я привязался к ней, деньги тут не важны.
– Мне жаль это слышать. Я проехал двести миль, чтобы купить эту лошадь.
Я удивленно посмотрел на своего нового знакомого, невольно повторив его последние слова.
– Должно быть, вы следовали за нами от Арканзаса.
– Нет, я приехал из Рио Абахо.
– От Рио Абахо! Вы хотите сказать, что ехали с юга до Дель Норте?
– Да.
– В таком случае, мой дорогой сэр, вы ошиблись. Вы считаете, что говорите с кем-то другим и торгуете какую-то другую лошадь.
– Нет, нет, это ваша лошадь. Черный жеребец с розовым носом и длинным пышным хвостом; наполовину арабская порода. Под левым глазом небольшой шрам.
– Да, это точное описание Моро.
Я начал испытывать что-то вроде суеверного страха перед своим загадочным собеседником.
– Правильно, – сказал я, – все правильно. Но я купил этого жеребца много месяцев назад у плантатора из Луизианы. Если вы только что прибыли за двести миль вниз по Рио Гранде, могу ли я спросить, откуда вы знаете о моей лошади?
– Прошу прощения, кабальеро. Я совсем не того хотел. Я приехал с юга, чтобы встретить караван и купить американскую лошадь. Вашу лошадь единственную во все табуне я бы хотел купить, и кажется, она единственная не продается.
– Мне жаль, но я проверил качества этого животного. Мы стали друзьями. Никакая обычная причина не заставит меня расстаться с ней.
– Ах, сеньор, совсем не обычная причина заставляет меня покупать эту лошадь. Если бы вы ее знали, может быть… – Он немного поколебался, произнося какие-то полуразличимые слова, среди которых я разобрал: «Buenos noches, caballero», и с этими словами незнакомец встал со все тем же загадочным видом, который меня удивил, и оставил меня. Я слышал звяканье маленьких колокольчиков на его шпорах, он постепенно смешался с толпой и исчез в ночи.
Место рядом со мной тут же заняла смуглая manola, в яркой нижней юбке, вышитой шемизетке, с загорелыми ногами и в маленьких голубых туфельках. Это было все, что я смог разглядеть; только время от времени видел сквозь разрез rebozo tapado[27] очень черный глаз. Постепенно rebozo становился все снисходительней, отверстие расширялось, и я увидел маленькое, но очень привлекательное и очень озорное лицо. Конец шарфа был искусно сброшен с левого плеча, беззаботно повисла обнаженная полная рука, заканчивающаяся маленькими пальчиками в кольцах.
Обычно я застенчив, но при виде такой искушающей партнерши я не выдержал, наклонился и на своем лучшем испанском сказал:
– Не потанцуете ли вы со мной, сеньора?
Озорная маленькая manola сначала опустила голову и покраснела, потом, подняв длинные ресницы, снова посмотрела на меня и голосом садким, как пение канарейки, ответила:
– Con gusto, señor. (С удовольствием, сэр.)
– Nos vamos[28], – радостно воскликнул я, и вскоре с замечательной партнершей мы кружились среди танцующих.
Потом вернулись на место, освежились стаканом «альбукерке», бисквитом и сигаретой, и снова стали танцевать. Такую приятную программу мы повторили с полдюжины раз, только меняя танцы от вальса до польки, потому что моя manola танцевала польку так, словно она цыганка.
У меня на пальце был бриллиант в пятьдесят долларов, и моя партнерша, по-видимому, считала его muy buenito[29]. Ее огненные глаза смягчились; шампанское и на мою голову производило свое действие; я начал подумывать о том, как бы переместить бриллиант с моего мизинца на ее самый большой палец, где он, несомненно, будет по размеру. Но тут я заметил, что за нами наблюдает рослый, свирепого вида леперо, настоящий пеладо[30], который следил за нами, в какую бы часть зала мы ни направились. На его смуглом лице была смесь ревности и мстительности; моя партнерша заметила это, но, как мне показалось, не собиралась менять поведение.
– Кто это? – шепотом спросил я, когда этот человек в своем клетчатом серапе прошел мимо нас.
– Esta mi madiro, señor (Это мой муж, сэр), – был хладнокровный ответ.
Я поглубже надел кольцо на палец, крепко сжав его.
– Vamos a tomar otra copita! (Давайте выпьем еще стакан вина!) – сказал я, решив поскорее попрощаться со своей хорошенькой poblana.
К этому времени виски начало производить свое действие на танцующих. Трапперы и погонщики стали вести себя шумно и буйно. Leperos, которые теперь заполнили зал, под влиянием вина, ревности, старой ненависти и танцев казались все более свирепыми и мрачными. Отороченные охотничьи рубашки и домотканые сюртуки пользуются вниманием мексиканских красоток, отчасти из уважения, но и страха, который часто лежит в основании их любви.
Хотя торговые караваны привозят в Санта-Фе почти все необходимое и жители явно заинтересованы в хороших отношениях с торговцами, англо-американцы и испано-индейцы ненавидят друг друга[31]; и это ненависть сейчас проявлялась в танцевальном зале, с одной стороны, как презрение, а с другой – в виде проклятий и мстительных взглядов.
Я по-прежнему болтал со своей хорошенькой партнершей. Мы сидели на банкетке, там, где я представился. Небрежно посмотрев вверх, я увидел какой-то яркий предмет. Это был обнаженный нож в руках su marido[32], который возвышался над нами, как тень злого духа. Я едва успел заметить этот опасный метеор и решил «обнажить сталь», как кто-то схватил меня за руку, и, повернувшись, я увидел своего недавнего знакомого.
– Прошу прощения, сеньор, – сказал он, вежливо кивая, – я только что узнал, что ваш караван отправляется в Чихуахуа.
– Верно, там хороший рынок для наших товаров.
– Вы, конечно, отравитесь с караваном?
– Конечно. Я должен.
– И возвращаться будете тем же путем?
– Весьма вероятно. Сейчас у меня нет других намерений.
– Может, тогда вы согласитесь расстаться с вашей лошадью? В долине Миссисипи очень много хороших лошадей.
– А вот это маловероятно.
– Но если передумаете, сеньор, сообщите ли мне?
– О, это я могу вам пообещать.
Наш разговор прервал огромный сухопарый пьяный миссуриец, который, грубо наступив незнакомцу на ногу, сказал:
– Эй ты, старик, уступи мне место!
– Y porque? (И почему?) – спросил мексиканец, освобождая ногу и глядя с удивленным негодованием.
– Пурку… дьявольщина! Я устал прыгать. Хочу посидеть, и все, старая кляча!
Его поведение было таким грубым и вызывающим, что я решил вмешаться.
– Послушайте, – обратился я к нему, – вы не имеете права прогонять этого джентльмена с его места, тем более в такой манере.
– Что, мистер? А кто просил тебя открывать рот? Вставай, говорю я!
И с этими словами он схватил мексиканца за воротник куртки, чтобы стащить его с места.
Прежде чем я смог ответить на эту грубую речь и жест, незнакомец вскочил на ноги и сильным ударом отправил грубияна на пол.
Это словно послужило сигналом, и в нескольких местах зала начались драки. Во всех частях зала слышались пьяные крики, сверкали ножи, извлеченные из ножен, кричали женщины, затрещали выстрелы из пистолетов, и помещение заполнилось дымом и пылью. Свет погас, звуки драки продолжали звучать в темноте, со стонами и проклятиями падали тяжелые тела, и в течение пяти минут это были единственные звуки.
У меня не было причины ни с кем драться, я остался стоять на месте, не применяя ни нож, ни пистолет, а испуганная женщина продолжала держать меня за руку. Боль в левом плече неожиданно заставила меня выпустить руку партнерши; испытывая необъяснимую слабость как всегда при получении раны, я шагнул к банкетке. Здесь я сел и оставался сидеть, пока драка не кончилась, чувствуя, как кровь течет у меня по спине и пропитывает одежду.
Наконец драка кончилась, зажгли свет, и я увидел, как с энергичными жестами расхаживают люди в охотничьей одежде. Некоторые выступали в защиту «кутежа», как они это называли; другие, самые респектабельные из торговцев, осуждали его. Leperos и женщины исчезли, и я видел, что сегодня победили американцы. На полу лежало несколько человек, мертвых или умирающих. Один из них был миссуриец, тот самый, что начал свалку, остальные – pelados. Моя напарница и ее муж тоже исчезли, и, посмотрев на левую руку, я увидел, что исчезло и мое кольцо с бриллиантом!
– Сент-Врейн! Сент-Врейн! – позвал я, видя, что входит мой друг.
– Где вы, Халлер, старина? Как вы? В порядке?
– Боюсь, не совсем.
– Милостивое небо! Что это? Да вас ударили ножом! Надеюсь, рана не тяжелая. Снимайте рубашку, посмотрим.
– Сначала давайте пойдем в мой номер.
– В таком случае пошли, мой дорогой мальчик, опирайтесь на меня. Вот так.
Фанданго кончилось.
Глава восьмая
Сеген, охотник за скальпами
Я имел удовольствие быть раненым на поле битвы. Я говорю «удовольствие». При некоторых обстоятельствах рана – это роскошь. Тебя уносят на носилках в какое-нибудь безопасное место. Адъютант соскакивает со взмыленной лошади и докладывает, что враг бежит, таким образом избавляя вас от опасений быть пронзенным каким-нибудь усатым копейщиком; к вам склоняется внимательный врач и, смотрев вашу рану, объявляет, что это «всего царапина» и вы через неделю-две выздоровеете; вы видите картины славы, объявление в правительственном вестнике; боль забыта в предвидении будущих триумфов; друзья поздравляют: одна улыбка вам дороже всех. Утешенный такими ожиданиями, вы лежите на своем грубом ложе, улыбаясь пулевой ране в ногу или удару саблей в руку.
У меня были такие чувства. Но совсем иные чувства испытываешь, страдая от раны, нанесенной рукой убийцы.
Вначале я тревожился из-за глубины своей раны. Что если она смертельная? Обычно это первый вопрос, который задает себе человек, обнаружив, что его ранили пулей или саблей. Раненый сам не всегда может ответить на этот вопрос. Жизнь может уходить с кровью из пробитой артерии, в то время как боль, возможно, всего лишь булавочный укол.
Добравшись до «Фонды», я устало лег на свою кровать. Сент-Врейн расстегнул на мне охотничью рубашку и осматривал рану. Я не видел лица друга, потому что он стоял за мной, и нетерпеливо ждал.
– Глубокая рана? – спросил я наконец.
– Ну, не такая глубокая, как колодец, и не такая широкая, как колея от колес фургона. Вам повезло, старина; слава богу, но не тому человеку, который это сделал: этот явно хотел вас прикончить. Это разрез от испанского ножа, дьявольский разрез. Клянусь господом! Халлер, было совсем близко! Еще один дюйм, и задело бы позвоночник, мой мальчик. Но сейчас вы в безопасности. Годе, давайте губку.
– Sacre! – пробормотал Годе с подлинно галльским произношением, подавая влажную тряпку.
Я почувствовал холодное прикосновение, потом мягкий сырой хлóпок – лучший материал для перевязки, какой был в нашем распоряжении, наложили на рану и закрепили полосками ткани. Самый искусный врач не мог бы это проделать лучше.
– Плотно, как зажим, – добавил Сент-Врейн, закрепляя последнюю булавку, и уложил меня в классической позе. – Но из-за чего началась драка? И как вы оказались в ней участником? Слава богу, я как раз вышел!
– Вы заметили необычно выглядящего мужчину?..
– Какого? В пурпурном плаще?
– Да!
– Который сидел рядом с нами?
– Да.
– Ха! Не зря вы говорите, что он выглядит необычно. У него не только внешность необычная. Да, я его видел, я его знаю, и, наверно, во всем зале никто не мог бы так сказать, – продолжал Сент-Врейн с улыбкой, – но меня удивляет, что привело его сюда. Армихо не должен был его увидеть. Но продолжайте.
Я пересказал Сент-Врейну весь свой разговор с незнакомцем; рассказал и об эпизоде, который привел к концу фанданго.
– Странно, очень странно! Зачем ему ваша лошадь? Проехал двести миль и предложил тысячу долларов?
– Enfant de garee, capitaine![33] (После моей поездки на бизоне Годе стал называть меня капитаном.) Если мсье проехал двести миль и готов заплатить mille долларов, клянусь богом! Pourquois? Почему он ее просто не украл?
Я вздрогнул при этом предположении и посмотрел на Сент-Врейна.
– С разрешения капитана, пойду посторожу конюшню, – продолжал канадец и пошел к двери.
– Не волнуйтесь, старина, если опасаетесь этого джентльмена. Он лошадь не украдет. Но вообще предложение разумное, идите посторожите лошадей. В Санта-Фе достаточно воров, чтобы украсть лошади целого полка. Лучше привяжите лошадь у двери.
Годе пожелал Санта-Фе и всем его обитателям переместиться в гораздо более жаркое место, чем Канада, открыл дверь и исчез.
– Кто он, – спросил я, – этот человек, в котором как будто так много загадочного?
– Ах, если бы вы знали. Я вам кое-что расскажу, но вскоре, не сегодня. Вам сейчас нельзя возбуждаться. Это знаменитый Сеген, охотник за скальпами.
– Охотник за скальпами?
– А, вы слышали о нем, несомненно; ну, в горах вы о нем обязательно услышите.
– Слышал. Ужасный негодяй! Охотник на невинных…
Темная тень показалась у стены – тень человека. Я присмотрелся. Передо мной стоял Сеген!
Сент-Врейн увидев его, отвернулся и стоял, глядя в окно.
Я собирался продолжить тираду, превратив ее в развернутое обвинение, и приказать этому человеку убираться из моей комнаты, но что-то в его внешности заставило меня замолчать. Не знаю, слышал ли он мои слова, понял ли, кому предназначались оскорбительные эпитеты, но в его поведении ничего не говорило, что он слышал. Я видел только то же выражение, которое с самого начала привлекло мое внимание, – выражение глубокой грусти.
Неужели этот человек тот жестокий и бессердечный негодяй, о котором я слышал, виновник стольких жестоких преступлений?
– Сэр, – сказал он, видя, что я молчу, – я глубоко сожалею о том, что с вами случилось. Я стал невольной причиной ваших неприятностей. У вас тяжелая рана?
– Нет, – сухо ответил я; тон ответа как будто смутил его.
– Рад это слышать, – сказал он, после небольшой паузы. – Я пришел поблагодарить вас за ваше великодушное вмешательство. Через десять минут я уезжаю из Санта-Фе. Желаю вам благополучия.
Он протянул руку. Я сказал «Прощайте», но не стал отвечать на рукопожатие. Вспомнил рассказы о жестокостях, связанные с этим человеком, и почувствовал отвращение к нему. Он продолжал держать руку протянутой, и на лице его появилось странное выражение, когда он увидел, что я колеблюсь.
– Я не могу пожать вам руку, – сказал я наконец.
– Почему? – спокойно спросил он.
– Почему? Она в крови! Уходите, сэр, уходите!
Он печально взглянул на меня. В этом взгляде не было гнева. Спрятал руку под плащом, глубоко вздохнул, повернулся и медленно вышел из комнаты.
Сент-Врейн, который в конце этой сцены повернулся, пошел за ним к двери, выглянул и смотрел ему вслед. Со своего места я видел, как мексиканец пересек квадратный двор patio. Он плотно завернулся в плащ и шел в позе, выражающей глубокое уныние. Через мгновение он прошел через сагуан[34], вышел на улицу и исчез из вида.
– Что-то в нем есть поистине загадочное. Скажите мне, Сент-Врейн…
– Тшшш! Посмотрите туда! – прервал меня мой друг, показывая в открытую дверь.
Я посмотрел на лунный свет. Три человека шли вдоль стены к входу в patio. Их рост, поза и вкрадчивая неслышная походка убедили меня в том, что это индейцы. В следующее мгновение они исчезли в тени.
– Кто они? – спросил я.
– Более опасные враги бедного Сегена, чем были бы вы, если бы знали его лучше. Жаль, если эти голодные коршуны одолеют его в темноте. Но нет: он достоин того, чтобы предупредить и помочь, если понадобится. И он это получит. Спокойней, Гарри, я скоро вернусь.
С этими словами Сент-Врейн меня оставил; мгновение спустя я увидел, как он выходит за ворота.
Я лежал, думая о происходящих вокруг меня странных происшествиях. И размышления мои были печальны. Я оскорбил человека, который не причинил мне вреда и которого мой друг явно уважает. На камнях снаружи прозвучали подкованные копыта; это подошел Годе с моей лошадью; затем я услышал, как он забивает в землю колышек.
Вскоре после того вернулся и Сент-Врейн.
– Ну, – спросил я, – что с вами было?
– Да ничего. Этот горностай никогда не спит. Он сел на лошадь раньше, чем они его догнали, и вскоре стал для них недосягаем.
– Но не поедут ли они за ним верхом?
– Маловероятно. Уверяю вас, у него поблизости есть товарищи. У Армихо – а это он послал за ним индейцев – нет людей, которые решились бы последовать за ним в горы. Когда он за пределами города, о нем можно не бояться.
– Но, мой дорогой Сент-Врейн, расскажите мне, что вы знаете об этом удивительном человеке. Я вне себя от любопытства.
– Не сегодня, Гарри, не сегодня. Не хочу, чтобы вы волновались; к тому же мне сейчас нужно уйти. До завтра! Спокойной ночи! Спокойной ночи!
С этими словами мой непоседливый друг предоставил меня Годе и ночи, полной размышлений.
Глава девятая
Остаюсь один
На третий день после фанданго было решено, что караван отправится в Чихуахуа.
Это день наступил, а я не мог отправиться с караваном. Мой врач, вымогатель мексиканец, заверил меня, что путешествие для меня равносильно смерти. У меня не было доказательств противного, пришлось ему поверить. Надо оставаться в Санта-Фе до возвращения торговцев.
Лежа в лихорадке в постели, я попрощался со своими спутниками. Расставались мы с сожалениям, но больше всего мне не хотелось прощаться с Сент-Врейном, чья беспечная дружба была для меня большим утешением в дни страданий. Он доказал свою дружбу и обещал присмотреть за моими фургонами и продать мои товары на рынке в Чихуахуа.
– Не расстраивайтесь, приятель, – сказал он мне при расставании. – Убивайте время за шампанским «эль пасо». Мы очень быстро вернемся; и поверьте мне, я привезу вам груз мексиканских монет, который только мул сможет нести. Да благословит вас бог. Прощайте!
Я смог сесть в кровати и через открытое окно смотрел на белые крыши фургонов, когда караван углублялся в окружающие город холмы. Я слышал хлопанье кнутов и крики «во-ха» погонщиков; видел торговцев, едущих верхом следом за фургонами; и, ложась в постель, почувствовал одиночество и заброшенность.
Несколько дней я метался и раздражался, несмотря на успокоительное действие шампанского и грубоватое, но искренне внимание со стороны своего слуги-путешественника.
Наконец я встал, оделся и сел у своего ventana[35]. Мне отсюда хорошо видна площадь и прилегающие улицы, с рядами коричневых домов adobe[36] и пыльными промежутками между ними.
Час за часом я смотрел на то, что происходит за окном. Сцена для меня новая и довольно разнообразная. За складками пыльных rebozos[37] видны смуглые неприятные лица. Свирепые взгляды сверкают из-под широких сомбреро. Мимо моего окна проходят женщины в коротких юбках и в матерчатых туфельках; из соседних ранчо приходят, подгоняя ослов, «прирученные» индейцы пуэбло. Они привозят корзины с овощами и фруктами. Садятся на пыльной площади рядом с грудами колючих груш, пирамидами помидоров или перца чили. Женщины, беспечные мелочные торговки, смеются, поют и непрерывно болтают. Tortillera[38], склонившись к своим metate[39], растирают вареную кукурузу, лепят тонкие лепешки и бросают на раскаленные камни и при этом кричат: «Tortillas! Tortillas calientes![40]. Cocinera[41] мешает тушеное мясо с чили, набирает ярко-красную жидкость в деревянную ложку и предлагает покупателям: «Chile bueno! Exellente!». «Carbon! Carbon!», – кричит разносчик угля. «Aqua! Aqua limpia!»[42] – надрывается aquadore[43]. «Pan fino, pan blanco!»[44] – это крик пекаря; кричат нестройными голосами продавцы atole, huevos, leche[45]. Таковы голоса мексиканской площади.
Вначале все это интересно. Потом становится скучным и наконец неприятным; в конечном счете я не выдерживаю и слушаю с нарастающим раздражением.
Через несколько дней я смог ходить и начал выходить со своим верным Годе. Мы гуляли по городу. Он напоминал мне огромный кирпичный завод, печи которого еще не разожгли.
Повсюду одинаковые глиняные дома, те же злобного вида оборванцы на углах, те же голоногие женщины; те же крики ослов, те же резкие и отвратительные возгласы.
Мы походили мимо полуразрушенного дома в конце города. И слышали доносящиеся изнутри громкие голоса. Кричали «Mueran los Yankies! Abajo los Americanos![46] Несомненно, pelado[47], которому я обязан своей раной, где-то среди бандитов, стоящих у окон; но я слишком хорошо знал, насколько это беззаконное место, чтобы попытаться восстановить справедливость.
Те же крики мы слышали и на других улицах и на площади, и мы с Годе вернулись в «Фонду», убежденные, что для нас появление на людях опасно. И поэтому решили оставаться за закрытой дверью.
За свою жизнь я никогда так не страдал от скуки, как в этом полуварварском городе; я едва не задыхался за стенами «Фонды». Я ощущал это тем сильней, что совсем недавно наслаждался обществом свободных людей и сейчас представлял их себе в лагере на берегу Дель Норте, пирующих, смеющихся или слушающих какие-нибудь удивительные рассказы о жизни в горах.
Годе разделял мои чувства и был так же раздражен, как я. Его легкий юмор исчез. Больше он не пел песни канадских лодочников, а их место заняли непрерывные sacre и Enfant de garee или английские проклятия; и все это он адресовал всем мексиканцам. Наконец я решил положить конец нашим страданиям.
– Такая жизнь нам не подходит, Годе, – обратился я к своему спутнику.
– Ах, мсье, конечно. Она нам никогда не подойдет! Мы все равно что на собрании квакеров.
– Я решил больше этого не терпеть.
– Но что может мсье сделать? Что, капитан?
– Мы можем уехать из этого проклятого места, и завтра же.
– Но хватит ли мсье сил? Жить в лагере? Ехать верхом?
– Я рискну, Годе. Если не выдержу, на реке есть другие города, где мы сможем отдохнуть. Везде лучше, чем здесь.
– C’est vrai, капитан. Прекрасные поселки ниже по реке: Альбукерке, Томе, много деревень. Mon Dieu, везде будет лучше. Санта-Фе – город одних воров. Нам нужно уходить, мсье. Очень хорошо.
– Хорошо или нет, Годе, но я ухожу. Так что вечером приготовьтесь, потому что выходим завтра утром еще до рассвета.
– Dieu merci! С большим удовольствием пойду готовиться.
И канадец выбежал из комнаты, радостно щелкая пальцами.
Я решил в любом случае оставить Санта-Фе. Если силы хотя бы наполовину вернулись ко мне, я последую за караваном и, если возможно, догоню его. Я знал, что на засыпанных песком дорогах Дель Норте караван движется медленно. Если не догоню, смогу остановиться в Альбукерке или в Эль Пасо; везде можно найти жилище не хуже того, что мы оставляем.
Врач попытался отговорить меня от поездки. Он заявил, что я нахожусь в критическом состоянии, рана моя совсем не зажила. Он красноречиво стал расписывать ожидающие меня опасности: лихорадка, гангрена, кровотечение. Видя что я упрям, он кончил тем, что предъявил мне счет. В счете была указана скромная сумма в сто долларов! Настоящее вымогательство. Что мне было делать? Я пытался протестовать, но мексиканец пригрозил мне «судом губернатора». Годе бранился по-английски, по-французски, по-испански и на языках индейцев. Все было бесполезно. Я понял, что придется заплатить, и заплатил.
Врач исчез, но за ним явился хозяин. Он, как и врач, попытался отговорить меня от отъезда. И предоставил множество причин, почему я не должен уезжать.
– Не уезжайте, сеньор, ради вашей жизни не уезжайте.
– Почему, добрый Хосе? – спросил я.
– О, сеньор, индейские бандиты! Навахо. Каррамбо!
– Но я не собираюсь на их территорию. Я поеду вниз по реке через города Нью Мексико.
– Ах, сеньор, города! В них no hay siguridad[48] Нет, нет, навахо везде опасны. Вот сегодняшняя новость. Польвидера, бедная Польвидера! На нее напали в прошлое воскресенье. В воскресенье, сеньор, когда все были en la misa[49]. Грабители окружили церковь, каррамба, они вытаскивали бедных жителей: мужчин, женщин и детей. Сеньор, они перебили мужчин. А женщины! Dios de mi alma![50]
– Так что с женщинами?
– О, сеньор, эти дикари их всех увезли в горы. Pobres mugeres![51]
– Да, печальная история. Но как я знаю, индейцы совершают набеги только через большие промежутки. Вряд ли я сейчас с ними встречусь. В любом случае, Хосе, я принял решение и готов рискнуть.
– Но, сеньор, – продолжал хозяин, таинственно понизив голос, есть и другие ladrones[52], кроме индейцев, белые, muchos, muchissimos![53]. Белые грабители.
И Хосе сжал пальцы, словно душил кого-то.
Это обращение к моему страху оказалось тщетным. Я ответил, показав на свои револьверы и ружье и на пояс с оружием на моем спутнике Годе.
Когда мексиканский трактирщик понял, что я лишаю его последнего постояльца, он мрачно ушел и вскоре вернулся со счетом. Как и счет врача, он был совершенно несообразным, но мне пришлось заплатить.
В предрассветной полутьме я сидел в седле и в сопровождении Годе, с парой тяжело груженных мулов выехал из злополучного города и направился в сторону Рио Абахо.
Глава десятая
Дель Норте
Несколько дней мы ехали вниз по Дель Норте. Проезжали многочисленные деревни, похожие на Санта-Фе. Пересекали zequias[54] и ирригационные каналы и проезжали мимо поле с ярко-зеленой кукурузой. Мы видели виноградники и большие гасиенды. По мере продвижения на юг провинции Рио Абахо, все казалось более богатым и процветающим.
Вдали на востоке и на западе вздымались в небо темные горы. Эти были двойные хребты Скалистых гор. Длинные отроги тянулись к реке и местами закрывали долину. По дороге мы видели множество прекрасных пейзажей.
В деревнях и в дороге мы видели живописные костюмы; мужчины носили клетчатые серапе или полосатые одеяла навахо[55]; конические сомбреро с широкими полями; бархатные calzoneros со множеством блестящих пуговиц, перепоясанные пестрыми шарфами. Видели шейные платки, и мужчины ходили в сандалиях, как на востоке. Что касается женщин, то они носили изящные reboso, короткие magua (нижние юбки) и вышитые шемизетки.
Мы видели примитивные орудия сельского хозяйства; скрипучие carreta[56]; примитивные плуги – раздвоенные древесные ветки, едва царапающие почву; видели запряженных в ярмо быков; козлов; видели неуклюжие мотыги в руках крестьян – все это было для нас новым и любопытным, все указывало на самый примитивный уровень хозяйства.
На дорогах встречалось множество atajos[57]; возле них стояли arrieros[58]. Видели мулов, маленьких, легких и очень злобных. Видели alparejas[59] и яркие шерстяные apishamores[60]. Мы видели крепких сухощавых мустангов, на которых сидели arrieros; у них были седла с высокими луками и уздечки, сплетенные из конского волоса; колокольчики на шпорах звякали на каждом шагу; слышались возгласы: Hola, mula! Malrya! Vaya! Мы видели все это и понимали, что находимся в земле испано-американцев.
В других обстоятельствах все это меня бы заинтересовало. Но сейчас это казалось мне картинами панорамы или меняющимися сценами долгого сна. Такими они и сохранились в моей памяти. У меня начиналась лихорадка.
Лихорадка только начиналась; тем не менее она искажала окружающее и делала его неестественным и утомительным. Рана снова начала болеть, и жаркое солнце, и пыль, и жажда, жалкие условия мексиканских посадас – трактиров – все это испытывало пределы моего терпения.
На пятый день после выезда из Санта-Фе мы добрались до бедного маленького «пуэбло»[61] Парида. Я собирался провести здесь всю ночь, но деревня была населена бандитами, не было никакой надежды на отдых, и мы поехали дальше в Сокорро. Это последний населенный пункт Нью-Мексико перед ужасной пустыней Хорнада дель Муэрте.
Годе здесь никогда не бывал, и нам пришлось нанять проводника. Он сам вызвался, а так как я знал, что найти проводника в Соккоро нелегко, я согласился. Это был грубый неотесанный оборванец, и его внешность мне совсем не понравилась; но, добравшись до Соккоро, я понял, что был прав. Никто ни на каких условиях не соглашался стать нашим проводником, настолько велик был страх перед пустыней и населяющими ее апачами.
Соккоро было заполнено слухами об индейцах. Дикари напали на деревню вблизи перехода Фра Кристобаль и перебили всех ее жителей. Эта новость всех привела в ужас. Люди боялись нападения и считали нас сумасшедшими, когда я говорил, что собираюсь пересечь Хорнаду.
Я начал опасаться, что и мой проводник испугается и откажется, но тот держался упорно и сказал, что все равно поведет нас.
И без перспективы встречи с апачами ничего хорошего в пустыне меня не ждало. Рана болела все сильней, я устал и горел в лихорадке.
Но караван прошел через Соккоро только за три дня до нас, и я надеялся догнать товарищей до того, как они покинут Эль Пасо. Это заставило меня принять решение двигаться дальше, и я приготовился к выходу ранним утром.
Мы с Годе проснулись до рассвета. Мой спутник отправился искать проводника и седлать лошадей. Я остался в комнате, чтобы выпить чашку кофе перед отъездом. Мне помогал хозяин трактира, который тоже встал и теперь стоял рядом со мной в своем серапе.
И тут я услышал, как Годе кричит:
– Mon maitre! Mon maitre![62] Мошенник сбежал!
– О чем вы говорите? Кто сбежал?
– О, мсье, этот мексиканец, сбежал и увел мула. Allons, monsieur, allons![63]
Я в тревоге пошел вслед за канадцем в конюшню. Моя лошадь – но нет, слава богу, она на месте! Нет одного из мулов, macho[64]. Того самого мула, на котором наш проводник приехал в Сокорро.
– Может, он еще не уехал, – предположил я. – Он еще может быть в городе.
Мы послали на поиски и сами искали повсюду, но бесполезно. Наконец нас избавил от сомнений один их базарных продавцов, рано приехавший в город: он сказал, что встретил нашего проводника у реки, и тот галопом скакал на муле.
Что нам было делать? Следовать за ним к Париде? Нет, такая поездка будет бессмысленной. Я знал, что он не настолько глуп, чтобы ехать туда. Но даже если бы он это сделал, было бы глупо добиваться там правосудия, поэтому я решил оставить его до возвращения торговцев; они помогут мне найти вора и потребовать у властей наказать его.
К сожалениям о потере мула примешалась своеобразная благодарность, когда я положил руку на морду своей фыркающей лошади. Что помешало ему взять не мула, а лошадь? Я никогда не мог найти ответа на этот вопрос. Могу лишь объяснить это тем, что ему удобней на муле возвращаться, или его крайней глупостью.
Я попытался найти другого проводника. Обратился к трактирщику, но безуспешно. Он не знал ни одного mozo[65], который согласился бы на поездку.
– Los Apaches! Los Apaches!
Я спрашивал бездельников на площади.
– Los Apaches!
Куда бы я ни пошел, мне везде говорил Los Apaches! И качали указательным пальцем перед носом – в Мексике это распространенный жест отрицания.
– Ясно, Годе, что проводника нам не найти. Придется идти в эту Хорнаду без него. Что скажете, путешественник?
– Согласен, mon maitre, allons!
И вот в сопровождении своего бесстрашного спутника, с одним вьючным мулом, я направился в пустыню. Ночь мы провели в развалинах Вальвердо и на следующее утро направились в «Смертельное путешествие».
Глава одиннадцатая
Смертельное путешествие
Через два часа мы достигли перехода Фра Кристобаля. Здесь дорога отворачивает от реки и углубляется в безводную пустыню. Мы прошли мелким бродом и оказались на восточном берегу. Здесь мы тщательно заполнили свои xuages[66] и дали возможность животным пить, сколько они хотят. После краткой остановки для отдыха и мы поехали дальше.
Мы проехали совсем немного, как поняли, что это ужасное путешествие названо верно. Вдоль дороги лежали кости разных животных. Среди них были и человеческие кости! Белый шар с улыбающимися зубами и неровными швами – это череп человека. Он лежит рядом со скелетом лошади. Лошадь и всадник упали одновременно. Упали и умерли в отчаянии, хотя вода была близко. Если бы они знали это, могли дойти из последних усилий!
Мы увидели скелет мула, с седлом и старым одеялом, истрепанным на ветру.
Другие предметы, принесенные людьми, бросались в глаза. Измятая фляжка, осколки стеклянной бутылки, старая шляпа, обрывок чепрака, шпора, рыжая от ржавчины, порванная подпруга и много подобных символов, говорящих вдоль дороги на своем печальном языке.
Мы еще только на границе пустыни. Мы свежи. В каком состоянии достигнем мы противоположного края? Оставим ли мы такие же сувениры?
Когда мы смотрели на сухую равнину, бесконечно уходящую вперед, нас мучили дурные предчувствия. Мы боялись не апачей. Сама природа стала врагом, которого мы страшились.
Ориентируясь на следы фургонов, мы двигались вперед. И молчали, словно онемели. Горы Кристобаль постепенно опускались, и вскоре мы «не видели землю». На востоке виднелись хребты Сьерра Бланка, но взгляд на юг не встречал никаких преград.
Солнце жгло все сильней. Я с самого выхода знал, что так будет. Утро было прохладное, на реке и в воздухе туман. В своих странствиях я много раз замечал, что такое утро предвещает очень жаркий день.
Солнце продолжало подниматься, и с каждым мгновением лучи его становились все более горячими. Дул сильный ветер, но он не приносил прохлады. Напротив, он вздымал в воздух горячие кристаллы, и они нещадно жгли нам лица.
Солнце достигло зенита. Мы шли по зыбкому песку. Много миль мы не видели никаких следов растительности. Следы фургонов больше не показывали нам дорогу. Их замели песок и пыль.
Теперь мы шли по равнине, заросшей полынью и колючими кустами.
Кривые колючие ветви мешали продвижению. Часами ехали мы сквозь заросли горькой полыни и наконец достигли другого района, песчаного и неровного. Длинные хребты отходили от гор и опускались в это пространство сухого песка. Время от времени нас подбадривали серебристые листы полыни. Вокруг была только пустыня, без следов и без деревьев.
Тропическое солнце отражалось от яркой поверхности, и эти отраженные лучи почти ослепили нас. Ветер стал слабей, и облака пыли висели в воздухе, медленно двигаясь.
Мы шли вперед без проводника и без ориентиров, по которым можно было бы проверить курс. Мы были в замешательстве. Нас окружала какая-то заколдованная местность. В небо вертикально вздымались песчаные башни, нагроможденные ураганами. Эти башни двигались по равнине. Они были желтые и блестящие. Солнце отражалось от их стен. Двигались они медленно, но приближались к нам.
Я со страхом смотрел на них. Слышал, как путников поднимало в вихре и бросало вниз с огромной высоты.
Вьючный мул, испугавшись этого явления, разорвал лассо и исчез среди песчаных холмов. Годе поскакал за ним. Я остался один.
Теперь появились девять или десять гигантских колонн, они сталкивались на равнине и угрожающе кружили вокруг меня. В этом зрелище было что-то нереальное. Песчаные столбы напоминали существа из фантомного мира. Они словно наделены демонической жизнью.
Два таких столба приближались друг к другу. Последовало быстрое и буйное столкновение, закончившееся взаимным уничтожением. Песок осел на землю, поднялась пыль огромными бесформенными массами.
Несколько столбов окружили меня и медленно приближаются. Моя собака завыла и залаяла. Лошадь подо мной задрожала от ужаса и закричала.
Я не знал, что делать. Сидел на лошади и с неописуемым чувством ждал конца. Слух заполнился гудением, словно от каких-то огромных машин. В ярком свете естественные цвета искажались. Мысли путались. Необычные объекты приближались ко мне. Я был охвачен лихорадкой!
Вращающиеся столбы столкнулись. Меня развернуло и сорвало с седла. Глаза, нос и уши заполнились пылью. Песок, камни, ветки безжалостно били по лицу. Меня бросило на землю!
****
Несколько мгновений я лежал там, куда упал, полузаваленный и ослепший. Я видел, что густые облака пыли продолжают кружиться надо мной.
Но я не потерял сознание и не был ранен. Начал щупать окружающее, потому что видеть по-прежнему не мог. Глаза были забиты песком и сильно болели.
Разведя руки, я поискал лошадь, позвал ее по имени. Мне ответило тихое ржание. Я пополз в том направлении и коснулся рукой корпуса Моро: жеребец лежал на боку. Я потянул за узду, и он встал. Я чувствовал, что он дрожит, как осина.
Почти полчаса я стоял у его головы, вытирал пыль с глаз и ждал, пока самум уляжется. Наконец атмосфера расчистилась, и я увидел небо; но вдоль земли по-прежнему несло песок, и поверхность равнины была мне не видна. Ни следа Годе. Однако он может быть где-то поблизости, и я стал громко звать его по имени. Прислушался, но ответа не было. Я снова закричал, но с тем же результатом. Кроме свиста ветра, не слышно ни звука.
Я сел верхом и поехал по равнине в поисках спутника. Понятия не имел, в каком направлении он ушел.
По кругу проехал примерно с милю, продолжая звать его по имени. Ответа не получил и на земле не видел никаких следов. Час двигался от отрога к отрогу, но по-прежнему не встретил никаких следов ни моего спутника, ни мулов. В отчаянии я натянул повод. Кричал, пока не ослабел и охрип. Больше искать я не мог.
Меня мучает жажда; я должен напиться. О боже, моя фляжка разбита. А мех с водой унес сбежавший мул.
Разбитый калабаш все еще висит на ремне, но последние капли воды стекают по боку лошади. Я знал, что нахожусь в пятидесяти милях от воды.
Вам не понять весь ужас такого положения. Вы на севере, в стране рек, ручьев и ключей. Вы никогда не испытывали настоящую жажду. Не знаете, что такое желание напиться. У вас вода стекает с каждого холмы, и вы разборчиво относитесь к ее качеству. Вы жалуетесь, что она слишком жесткая, или слишком мягкая, или недостаточно чистая. Не таков житель пустыни, путник в море прерий! Для него вода – главная забота, главная тревога: вода – божество, которому он поклоняется.
Голод он может подавить, пока на нем еще держится кожаная одежда. Если не встретится дичь, он может поймать сурка, ящерицу или собрать сверчков прерий. Он знает все съедобные корни и семена. Если дать ему воду, он продолжит жить и бороться. И выберется из пустыни. Если нет воды, он будет лизать пулю или гладкий камень халцедон. Может разрезать толстый стебель кактуса или вскрыть внутренности убитого бизона, но в конце концов все равно умрет. Без воды, даже располагая изобильной пищей, он умрет. Ха! вы не знаете пустыню. Она ужасна. А в пустыне убивает жажда.
Неудивительно, что я был полон отчаяния. Я считал, что нахожусь посредине Хорнады, и знал, что никогда не доберусь до противоположного края без воды. Жажда уже мучила меня. Горло и язык распухли и высохли. Это сделали жажда и лихорадка. Свою долю внесла и пыль пустыни. Ужасная жажда уже грызла меня своими безжалостными клыками.
Я потерял всякое представление о маршруте, которым собирался следовать. Раньше проводником мне служили горы, но теперь они как будто были во всех направлениях. Меня ставили в тупик их бесчисленные вершины.
Я слышал об источнике к западу от нашего маршрута, Охо дель Муэрто. Иногда в этом источнике бывает вода. В других случаях, добравшись до него, путник обнаруживает, что источник пересох, и оставляет свои кости на его берегах. Так рассказывали в Сокорро.
Несколько минут я колебался, потом почти машинально потянул за повод и повернул лошадь на запад. Я поищу источник и, если не найду, продолжу движение к реке. Тем самым я отклоняюсь от своего маршрута, но я должен найти воду или умереть.
Я сидел в седле, ослабев, задыхаясь, и предоставил лошади самой выбирать путь. У меня уже не было сил, чтобы управлять ею.
Мы проехали много миль на запад, потому что направление мне подсказывало солнце. Неожиданно я вышел из оцепенения. Радостное зрелище предстало передо мной. Озеро! Озеро, сверкающее хрусталем! Я уверен, что видел его? Может, это мираж? Нет. У него слишком четкие, определенные очертания. Нет беловатой внешности, отличающей мираж. Нет! Это не мираж! Это вода!
Я непроизвольно вонзил шпоры в бока лошади, но она в этом не нуждалась. Она тоже увидела воду и с новой энергией поскакала к ней. И через мгновение вошла в воду по колени.
Я спрыгнул с седла. Едва не поднес воду к пересохшим губам, как заметил поведение лошади. Она не стала жадно пить, а стояла, с разочарованным видом мотая головой. Собака тоже не пила, но бегала вдоль берега и лаяла.
Я сразу понял, что это значит; но с упрямством, которое отказывается принять свидетельства органов чувств, поднес несколько капель к губам. Вода была соленой, она обжигала. Я должен был понять это, еще не доехав до озера, потому что проезжал через выступы соли, которые окружают озеро белым поясом. Но голова моя была в лихорадке, разум меня покинул.
Не было смысла оставаться на месте. Я снова забрался в седло и медленно поехал вдоль берега по полям сверкающей белой соли. Тут и там копыта лошади задевали за выбеленные кости животных, останки множества жертв. Это озеро правильно было названо – Лагуна дель Муэрте, Озеро Смерти.
Добравшись до южной оконечности озера, я снова направился на запад в надежде дойти до реки.
С этого момента и до того времени, как я оказался в совершенно ином окружении, у меня нет четких воспоминаний. Я помню отдельные случаи, не связанные друг с другом, но тем не менее реальные. Наряду с ними, были и другие картины, такие дикие и невероятные, что я могу их приписать только охватившему меня безумию. Однако некоторые их них тоже были реальны. Вероятно, временами из-за необычных колебаний мозга ко мне возвращался здравый смысл.
Помню, как я спешился на высоком берегу. Должно быть, до этого я часами ехал без сознания, потому что солнце было низко над горизонтом. Берег был очень высокий, и подо мной в пропасти я видел прекрасную реку, текущую через зеленые рощи. Мне показалось, что в рощах летает много птиц, и их голоса мелодично звучат. В воздухе аромат цветов, и вся сцена подо мной кажется раем. А вокруг того места, где я стою, все мрачно, голо, выжжено от нестерпимой жары. Меня мучила жажда, она усиливалась от зрелища этой текущей воды. Это подлинный инцидент. Все это было правдой.
****
Я должен напиться. Должен спуститься к реке. Какая прохладная и сладкая вода! О, я должен напиться! Что? Какой страшный утес! Нет, здесь я не стану спускаться. Легче спуститься вон там. Но кто эти фигуры? Кто вы, сэр? А, это ты, мой смелый Моро; и ты, Альп. Идемте, идемте! Следуйте за мной! Вниз, вниз к реке. Опять этот проклятый утес! Посмотрите на эту прекрасную воду. Она улыбается. Она журчит, течет. Давайте напьемся. Нет, пока нельзя. Мы должны идти дальше. Ух! Слишком высоко, чтобы спрыгнуть. Но мы должны напиться, все до одного. Идем, Годе! Идем, Моро! Идем, Альп! Мы доберемся до воды, нам нужно напиться. Кто здесь Тантал? Ха! Ха! нет, это не я. Уходи, злой дух! Не толкай меня через край. Отойди, говорю я! Назад!
****
Мне казалось, что фигуры, дьявольские, призрачные, столпились вокруг меня и толкают к краю утеса. Меня подняли в воздух. Я чувствую, что падаю, падаю, падаю, но не приближаюсь к зеленым деревьям и яркой воде, хотя вижу все это под собой.
****
Я на камне, на огромной массе, но камень не лежит неподвижно. Он плывет вперед через пустое пространство. Сам я не могу пошевелиться. Я лежу беспомощно, вытянувшись на его поверхности, а камень продолжает лететь. Это метеорит. Ничем другим это не может быть. О боже, когда он коснется планеты, будет ужасное столкновение! Ужас! Ужас!
****
Я лежу на земле, не на камне, на земле. Поверхность подо мной колышется, как в землетрясении.
****
Частично все это было реальностью, частично бредом, похожим на первое опьянение.
Глава двенадцатая
Зоя
Я лежал, разглядывая фигуры на пологе. Это сцены древних времен: рыцари в кольчугах, в шлемах и верхом на конях, скачут с длинными копьями наперевес или, пронзенные таким копьем, падают с лошади. На других сценах благородные дамы сидят на лошадях и наблюдают за полетом соколов. Тут же ждут пажи, на поводках держат собак любопытных и не существующих сейчас пород. Возможно, они вообще существовали только в воображении старомодного художника, но мой взгляд падал на них с каким-то полусумасшедшем удивлением.
Особенное впечатление на меня произвели благородные черты лица дам. Неужели это тоже фантазия художника или подобные божественные лица и фигуры типичны для того времени? Если так, неудивительно, что за их улыбку разбиваются латы и скрещиваются копья.
Полог поддерживали металлические столбики; они ярко сверкали и, изгибаясь вверх, образовывали купол. Мой взгляд пробежал вдоль этих столбиков; я разглядывал их форму и восхищался, как ребенок, регулярностью их изгибов. Я не в своем мире. Все это кажется мне необычным.
«Однако, – думал я, – что-то такое я уже видел, но где? О, вот это я знаю, эти широкие полосы и шелковая текстура; это одеяло навахо! Где я был в последний раз? В Нью-Мексико? Да. Теперь я вспомнил. Хорнада! Но как я оказался…?
Могу ли я распутать это? Сплетено плотно, это шерсть, тонкая шерсть. Нет, я не могу отделить нити…
Мои пальцы! Какие они бледные и худые! А ногти – синие и длинные, как когти птицы. И у меня борода! Я чувствую ее на подбородке. Откуда у меня борода? Я никогда не отпускал бороду. Надо ее сбрить. Ха, и усы!
Эти рыцари, как они сражаются! Кровавая работа! Этот смелый парень, тот, что поменьше, собьет другого с лошади. Я чувствую это по ходу его лошади и по тому, как он сидит на ней. Лошадь и всадник теперь единое целое. Единый разум соединяет их таинственной связью. Они обязательно победят.
Эти прекрасные дамы! Вот эта, с соколом на руке, как она прекрасна! Смелая, но прекрасная!»
Я устал и снова уснул.
****
Снова мои глаза следят за фигурами на пологе, за рыцарями и дамами, за лошадьми, собаками и соколами. Но сознание мое стало яснее, и я услышал музыку. Я лежал тихо и слушал.
Голос женский. Мягкий и хорошо модулированный. Кто-то играет на струнном инструменте. Я узнаю тона испанской арфы[67], но песня французская, нормандская; и слова на языке этой романтической земли. Я удивляюсь этому, потому что начинаю вспоминать события и понимаю, что я далеко от Франции.
Моя кровать освещена; повернув голову, я вижу, что полог раздвинут.
Я в большой комнате, необычно, но элегантно обставленной. Передо мной стоящие и сидящие люди. Некоторые сидят на полу, другие на стульях и диванах; все они как будто чем-то заняты. Мне кажется, что людей много, по крайней мере шесть или семь человек. Но это оказалось иллюзией. Я обнаружил, что объекты передо мной удваиваются на моей больной сетчатке; все существует словно парами, у всего есть двойник. Но после того как я какое-то время смотрел, зрение приспособилось и стало более надежным; и я увидел, что на самом деле в комнате только три человека: один мужчина и две женщины.
Я продолжал молчать, не зная, вижу ли реальную картину или это по-прежнему мой сон. Мой взгляд переходит от одного человека к другому, не привлекая внимания никого из них.
У всех разные позы и разные занятия.
Ближе всего ко мне женщина средних лет, она сидит на низкой оттоманке. Арфа, звуки которой я слышал, перед ней, и она продолжает играть. Мне кажется, что в молодости она была исключительно красива. В определенном смысле она по-прежнему красива. У нее благородные черты лица, хотя я вижу, что на них отразились какие-то страдания. Шелковая поверхность лица, несмотря на уход, уступает под воздействием времени.
Она француженка: этнограф сказал бы это, бросив на нее один взгляд. Эти линии, характеристика ее высокоодаренного народа, легко различимы. Я подумал, что улыбка на этом лице очаровала многих. Но сейчас на нем не было улыбки. Только глубоко интеллектуальное выражение меланхолии. То же выражение я слышал в ее голосе, в ее песне, в каждой ноте, исходящей от струн ее инструмента.
Мои глаза еще больше расширились. У стола посредине комнаты стоял мужчина гораздо старше среднего возраста. Лицом он был обращен ко мне, и его национальность было определить так же легко, как у женщины. Цветущие щеки, широкий лоб, выступающий подбородок, Маленькая зеленая шапка с длинным козырьком и конической верхушкой, синие очки – все очень характерно. Он немец. Лицо не отличается интеллектуальностью, однако именно люди с таким лицом давали доказательства своего интеллекта во всех сферах науки и искусства; исследований глубоких и удивительных, с рядовым талантом, но с исключительным трудолюбием и с огромной работой, работой не знающего усталости Геракла; они способны взгромоздить Пелион на Оссу[68]. Такие мысли возникли у меня, когда я смотрел на этого человека.
Его занятие тоже характерно для его национальности. Перед ним на столе и на полу лежали объекты его изучения: растения разных видов. Он классифицировал эти растения и осторожно раскладывал между листов своей папки. Было очевидно, что этот человек ботаник.
Взгляд направо, и натуралист и его работа потеряли для меня всякое значение. Я видел самое прекрасное создание из всех, что когда-нибудь были у меня перед глазами, и мое сердце в восторге восхищения бешено застучало. Капли летнего дождя на ирисе, солнечный рассвет, яркие краски павлина – все меркнет. Слейте все красоты природы в одно гармоничное целое, и все равно это будет не такое чувство, как то, что охватывает при виде самой прекрасной в мире женщины.
Во всем творении нет ничего лучше, ничего прекрасней любимой женщины!
Но мой взгляд держала в плену не женщина, а ребенок – девочка, стоящая на пороге женственности, готовая переступить этот порог при первых призывах любви!
Красоту считают произвольной, называют фантазией, капризом, модой, тем, что мы используем. Как часто слышим мы такие банальные высказывания, и те, кто так говорит, самодовольно наслаждаются своей мудростью!
«Каждый глаз формирует собственную красоту»[69] Ложный и мелкий софизм. Точно так же можно заявить, что каждое нёбо создает собственный вкус. Сладок ли мед? Горька ли полынь? Да, в том и в другом случае сладкое и горькое одинаково для ребенка и взрослого, для дикаря и цивилизованного человека, для невежи и для ученого. Это верно при всех обстоятельствах, конечно, если каприз, привычка или мода не создают исключение. Зачем отказывать одному чувству в том, чем обладают все остальные? Разве у глаза человека в естественном состоянии нет того, что его привлекает или отталкивает? Это так, и законы, регулирующие эти отношения, так же незыблемы и безошибочны, как орбиты звезд. Мы не знаем, каковы эти законы, но знаем, что они существуют, и можем доказать это так же ясно, как Леверье установил существование Нептуна: планеты, недоступной телескопу и вращавшейся миллионы лет вне поля зрения бессонных часовых астрономии.
Почему взгляд с наслаждением следит за линией окружности, за изгибами эллипса, за отрезками конуса? Почему он не отрывается от линий Хогарта[70]? Почему печалится, если эти линии разрываются? Да, существует то, что ему нравится и не нравится, его сладкое и горькое, его мед и полынь.
Значит, красота не произвольна. Фантазия, условность – все это не в объекте, а во взгляде смотрящего. Взгляд может быть необразованным, вульгарным или искаженным модой. Формы и цвета прекрасны, независимо от мнения того, кто их разглядывает.
Есть еще более высокий уровень, который может быть связан с этой теорией: интеллект может установить причину, по которой объект прекрасен или отвратителен. У интеллекта есть свои формы и очертания в физическом мире. Он воспринимает красоту, несмотря на явные противоречия. Уродство – отвратительное слово – должно напрягаться, чтобы достичь того, чего красота достигает без всяких усилий. Отсюда различия, предполагаемые доказательства интеллектуального величия, которое часто сопровождается физической невзрачностью. Отсюда некрасивые актрисы, стремящиеся к красоте, женщины библиографы, вообще «синие чулки». С другой стороны, красота восседает на троне, как королева или богиня. Она не делает никаких усилий, потому что они ей не нужны. Мир реагирует на ее малейшие призывы и складывает к ее ногам свои приношения.
Эти мысли не возникали в моем сознании, хотя могли бы, пока глаза с восторгом смотрели на изгибы тела прекрасного существа. Мне показалось, что я уже видел это лицо. Действительно, несколько мгновений назад, когда смотрел на старшую женщину. Одно и то же лицо – говоря фигурально, лицо, переданное матерью дочери: тот же высокий лоб, те же лицевые углы, те же очертания носа, прямого, как луч света, с тонкими, подобными спиралям изгибами ноздрей, какие встречаются на греческих медальонах. И волосы одинаковые, золотистые, хотя у матери в них видны серебряные прядки. Пряди девушки как солнечные лучи, падающие на шею и плечи; а шея и плечи такой изящной белизны, что могли бы быть изваяны из камня Каррары.
Возможно, это все покажется вам слишком возвышенным; фигуральным, если хотите. Но ни писать, ни говорить иначе на эту тему я не могу. Но не буду больше рассуждать и избавлю вас от подробностей, которые вам малоинтересны. В обмен сделайте мне одолжение: признайте, что то существо, которое произвело на меня такое впечатление, было прекрасно.
– Ах, мадам и мадмуазель был бы ошень добры, если бы сыграль «Марсельез», великий «Марсельез». Что скажет майн клайне фройлен?
– Зоя, Зоя, бери свою бандолу[71]. Да, доктор, мы сыграем ее для вас с удовольствием. Вам нравится музыка. Нам тоже. Давай, Зоя!
Девушка, которая внимательно наблюдала за работой натуралиста, прошла в дальний угол комнаты, взяла инструмент, похожий на гитару, вернулась и села рядом с матерью. Бандола заиграла вместе с арфой, и струны обоих инструментов издавали волнующие ноты «Марсельезы».
В исполнении было что-то возбуждающее и изящное. Мне показалось, что инструментовка выполнена прекрасно; и голоса играющих в сладкой и душевной гармонии сопровождали музыку. Я смотрел на Зою: лицо девушки оживилось благодаря вдохновенным словам гимна, она вся словно светилась и казалась каким-то бессмертным существом; молодая богиня свободы призывает своих детей «к оружию!»
Ботаник перестал работать и стоял, восхищенно слушая. При каждом возгласе “Aux armes, citoens!” старик щелкал пальцами и притоптывал в ритм музыке. Он был полон тем духом, который в то время охватил всю Европу.
«Где я? Французские лица, французская музыка, французские голоса, все разговоры на французском! – потому что ботаник обращался к женщинам на этом языке, хотя и с сильным рейнским акцентом, что подтверждало мое первое впечатление о его национальности. – Где я?»
Я осмотрел комнату в поисках ответа. Я узнавал стулья Campeachy[72] со скрещенными ножками, petate[73] из листьев пальмы.
На матраце у моей постели спала собака.
– Альп! Альп!
– О, мама, мама, ecoutez[74], незнакомец зовет.
Собака вскочила и, встав передними лапами на постель, радостно завизжала. Я протянул руку и потрепал ее, в то же время произнося ласковые слова.
– О, мама, мама, он ее узнал. Voila!
Женщина торопливо встала и подошла к кровати. Немец взял меня за руку, оттолкнув сенбернара, который собирался совсем вскочить на кровать.
– Mon Dieu! Он здоров. Его глаза, доктор. Как они изменились!
– Я, я; много лючше, много лючше. Эй, тише, зобака! Уберите зобаку!
– Кто? Где? Скажите, где я? Кто вы такие?
– Не бойтесь. Мы друзья. Вы были больны.
– Да, да! Мы друзья, вы были больны, сэр. Не бойтесь нас, мы вам поможем. Это хороший врач. Это мама, а я …
– Ангел с неба, прекрасная Зоя!
Девушка удивленно посмотрела на меня, покраснела и сказала:
– Послушай, мама! Он знает, как меня зовут!
Это был первый комплимент, полученный ею из уст любви.
– Карашо, мадам. Он скоро поправится. Посторонись, мой добрый Альп! Твой хозяин поправится, карошая зобака, ложись!
– Может, доктор, нам оставить его? Этот шум…
– Нет, нет! Пожалуйста, останьтесь со мной! Эта музыка. Поиграйте еще.
– Да, музик, это карашо. Карашо для боли.
– О, мама, давай еще поиграем.
Мама и дочь взяли инструменты и снова начали играть.
Я долго слушал сладкие звуки и смотрел на прекрасных музыкантш. Веки отяжелели, и реальность вокруг сменилась сном.
* * *
Неожиданное прекращение музыки разбудило меня. Мне показалось, что я во сне слышал, как открылась дверь. Посмотрев туда, где сидели музыкантши, я их не увидел. Бандола[75] лежала на оттоманке.
Со своего места я видел не всю комнату, но знал, что кто-то вошел через наружную дверь. Я слышал приветственные возгласы и ласковые слова, слышал шелест одежды, слова «Папа!» и «Моя маленькая Зоя!» Последние слова произнес мужчина. Потом последовал негромкий разговор, слова которого я не разобрал.
Прошло несколько минут, я лежал молча и прислушивался. Вскоре в коридоре послышались шаги и звон шпор, задевающих крытый плиткой пол. Шаги прозвучали в комнате, человек подошел к кровати. Посмотрев на него, я вздрогнул. Передо мной стоял охотник за скальпами!
Глава тринадцатая
Сеген
– Вам лучше. Скоро совсем поправитесь. Я рад, что вы выздоравливаете.
Это он говорил, не протягивая руку.
– Я у вас в долгу: вы спасли мне жизнь. Ведь это так?
Странно, но я был убежден в этом, как только увидел этого человека. Думаю, эта мысль приходила мне и раньше, после того, как я очнулся. Может, я встретил его, когда искал воду, или мне это только приснилось?
– О, да, – ответил он с улыбкой, – но мне пришлось вмешаться, потому что вы были на краю гибели.
– Пожмете ли вы мне руку? Простите ли меня?
Даже в благодарности есть что-то эгоистичное. Но как необычно изменились мои чувства к этому человеку! Я просил руку, которую несколько дней назад в приступе гордой морали отверг, как нечто отвратительное.
Но меня одолевали и другие мысли. Человек, стоящий передо мной, муж женщины и отец Зои. Его ужасное занятие было забыто; и в следующее мгновение мы обменялись дружеским рукопожатием.
– Мне нечего прощать. Я уважаю чувства, которые заставили вас так действовать. Эти слова могут показаться вам странными. По тому, что вы обо мне знаете, вы правы. Но придет время, сэр, когда вы узнаете меня лучше; и тогда поступки, которые сейчас кажутся вам отвратительными, могут показаться не только простительными, но и оправданными. Однако хватит сейчас об этом. Я пришел сюда, чтобы попросить вас не рассказывать здесь то, что вы обо мне знаете.
Он перешел на шепот, в то же время указывая на двери комнаты.
– Но как, – спросил я, пытаясь сменить неприятную для него тему, – как я оказался в этом доме? Как я полагаю, то ваш дом. Как я сюда попал? Где вы меня нашли?
– В не слишком безопасном положении, – с улыбкой ответил он. – Меня вряд ли стоит благодарить. Вас спасла ваша благородная лошадь.
– Ах, моя лошадь! Мой храбрый Моро! Я его потерял!
– Ваша лошадь стоит над кормушкой с кукурузой в десяти шагах от того места, где вы лежите. Думаю, вы найдете ее в лучшем состоянии, чем когда видели в последний раз. Ваших мулов нет. Седельные мешки в безопасности. Вы найдете их здесь.
И он показал на изголовье моей кровати.
– И…
– Вы хотите спросить о Годе, – прервал он меня. – Не беспокойтесь на его счет. Он тоже в безопасности. Сейчас его здесь нет, но скоро он вернется.
– Как мне отблагодарить вас? Поистине хорошая новость. Мой храбрый Моро! И мой Альп! Они все здесь. Но как? Вы говорите, что меня спасла лошадь. Она это сделала и раньше. Как это произошло?
– Очень просто. Мы нашли вас во многих милях от этого места на утесы над Дель Норте. Вы висели на лассо, которое по какой-то счастливой случайности обмоталось вокруг вашего тела. Один конец лассо был привязан к удилам, и благородное животное, присев на задние ноги, выдерживало вашу тяжесть!
– Благородный Моро! Какое ужасное положение!
– Да, можно сказать и так. Если бы вы упали, пролетели бы тысячу футов, прежде чем удариться о камни внизу. Поистине ужасное положение.
– Должно быть, я споткнулся в поисках воды.
– В бреду вы шагнули с утеса. И сделали бы это снова, если бы мы вам не помешали. Когда мы вытащили вас на утес, вы сопротивлялись и пытались вернуться. Вы видели внизу воду, но не видели пропасть. Жажда ужасна; она само безумие.
– Кое-что из этого я помню. Мне это казалось сном.
– Не беспокойте голову такими мыслями. Врач посоветовал мне оставить вас здесь. У меня есть цель, как я сказал (при этих словах лиц его стало печальным), иначе я не нанес бы вам этот визит. У меня очень мало времени. Сегодня вечером я должен быть далеко отсюда. Доктор позаботится, чтобы у вас было все необходимое. Моя жена и дочь будут заботиться о вас.
– Спасибо, спасибо!
– Вы благоразумно поступите, если подождете здесь возвращения ваших друзей из Чихуахуа. Они пройдут недалеко отсюда, и я скажу вам, когда они будут близко. Вы образованный человек. Здесь есть книги на разных языках. Забавляйтесь. Они будут вам играть. Мсье, адье!
– Сэр, еще минуту! У вас какая-то причуда, связанная с моей лошадью?
– Мсье, это не причуда; но объясню как-нибудь потом. Возможно, эта потребность больше не существует.
– Возьмите лошадь, если хотите. У меня будет другая.
– Нет, мсье. Неужели вы думаете, что я отниму у вас то, что вы так высоко цените и цените справедливо? Нет, нет! Оставьте себе доброго Моро. Я не удивляюсь вашей привязанности к этому благородному животному.
– Вы сказали, что вам предстоит долгая поездка. Возьмите его хотя бы на время.
– Вот это предложение я приму, потому что моя собственная лошадь очень устала. Я два дня провел в седле. Что ж, адье!
Сеген пожал мне руку и вышел. Я услышал звон его шпор, когда он прошел по комнате, и в следующее мгновение дверь за ним закрылась.
Я остался один и лежал, прислушиваясь к звукам, доносившимся снаружи. Примерно через полчаса после его ухода я услышал стук копыт лошади и увидел промелькнувшую мимо окна тень всадника. Он отправился в дорогу, несомненно, по кровавому делу, связанному с его занятием.
Я лежал, думая об этом странном человеке. Потом мои размышления прервали сладкие голоса, передо мной появились милые лица, и охотник за скальпами был забыт.
Глава четырнадцатая
Любовь
Я изложу события следующих дней в немногих словах. Не стану утомлять вас подробностями своей любви – любви, которая за несколько часов превратилась в глубокую пылкую страсть.
Я был тогда молод; как раз в таком возрасте, когда романтические приключения, в которых я участвовал, действуют особенно сильно; это они поставили на моем пути прекрасное существо; это возраст, в котором сердце, не охраняемое холодными расчетами на будущее, без сопротивления отдается электрическому воздействию любви. Я говорю «электрическому», потому что считаю, что в этом возрасте чувства, связывающие два сердца, относятся исключительно к такой природе.
В более позднем возрасте эта сила растворяется и разделяется. Ею начинает править разум. Мы начинаем сознавать возможность переноса чувств, если они ослабли; и теряем ту уверенность, которая утешает нас в молодости. Мы становимся надменными или ревнивыми, если обстоятельства способствуют нам или оборачиваются против нас. К любви в более позднем возрасте примешивается нечто иное, отвлекающее нас от ее божественной сущности.
Я могу назвать то, что испытывал, своей первой настоящей страстью. Я считал, что любил раньше, но это была только мечта – мечта деревенского мальчишки, увидевшего небо в ярких глазах своей застенчивой одноклассницы; или который на семейной пикнике в какой-нибудь романтической долине коснулся розовой щеки своей красивой кузины.
Я выздоравливал со скоростью, которая удивляла искусного знатока трав. Любовь подкармливала и укрепляла пламя жизни. Воля часто определяет действия, она обладает властью над телом. Стремление быть здоровым, жить и видеть цель жизни часто ускоряет выздоровление. Так было со мной.
Я окреп и встал с постели. Взгляд в зеркало показал, что ко мне возвращается нормальный цвет лица. Любовь питает пламя любви. Воля часто определяет поступки, и, что ни говорите, она обладает властью над телом. Стремление выздороветь, жить и сам объект любви часто оказываются лучшими лекарствами. И все это у меня было.
Я стал сильней и встал с постели. Взгляд в зеркало показал, что краска вернулась на мое лицо.
Инстинкт учит дикую птицу чистить перья, когда самец ухаживает за самкой. Аналогичное чувство заставило меня подумать о своем туалете. Я перебрал все свои вещи, извлек бритву, борода исчезла с моего подбородка, а усы подстрижены и стали короче и меньше.
Я признаюсь во всем этом. Мир говорил мне, что у меня неплохая внешность, и я верил в это. Мне, как и всем смертным, присуще тщеславие. А вам разве нет?
Но у Зои, невинного ребенка, таких мыслей не было. Хитрости туалета никогда ее не занимали. Она не подозревала о своей прелести, так щедро дарованной ей природой. Никто не говорил ей, что она прекрасна. Я узнал необычный факт: кроме отца, старого ботаника и пеонов пуэбло, слуг в доме, я был единственным человеком моего пола, которого она видела в этот период своей жизни! Годами она и ее мать жили в одиночестве в этом доме; одиночество было таким полном, как в тюрьме. Во всем этом была загадка, но я разгадал ее только впоследствии.
У нее было девственное сердце, чистое и безупречное; сердце, в которое еще не попали лучи любви; в его святую невинность бог любви не послал еще ни одной стрелы.
Вы моего пола? Хотелось ли вам когда-нибудь стать повелителем такого сердца? Если можете, ответьте на это вопрос утвердительно, и я скажу вам то, что вам нужно хорошо запомнить: Любые усилия, которые вы сделаете, чтобы достичь этого, напрасны. Вас либо полюбят сразу, либо не полюбят никогда.
Девственное сердце не подчиняется тонкостям ухаживания. Здесь не бывает так, чтобы вы немного понравились, но усердие с вашей стороны позволит вам понравиться больше. Либо вы сразу нравитесь, либо вам ничего не поможет. И это первое впечатление возникает стремительно, как молния. Это все равно что бросать кости: вы можете выиграть, но можете и проиграть. И если проиграли, сразу отказывайтесь от игры. Никакие усилия не преодолеют это препятствие и не вызовут чувство любви. Вы можете получить дружбу, но любовь – никогда. Никакое кокетство с вашей стороны не заставит это сердце ревновать, никакие услуги не вызовут любовь. Вы можете завоевать мир, но не сможете контролировать тайные и неслышные биения этого сердца. Вы можете быть героем, прославленным тысячами языков; но в этом маленьком сердце будет только его герой, более благородный и возвышенный, чем все остальные. И это прекрасное создание, владелица этого сердца, будет целиком принадлежать своему герою, каким бы скромным и даже ничтожным он ни был. Не будет рассуждений, осторожности, хитрости. Она полностью отдастся загадочным побуждениям природы. Под их влиянием она отдаст свое сердце на алтарь, если будет знать, что он примет эту кровоточащую жертву!
Справедливо ли это относительно зрелого сердца, часто подвергавшегося нападениям, сердца красавицы и кокетки? Нет. Если вас отвергли здесь, вы можете не отчаиваться. У вас могут оказаться качества, которые со временем заставят сменить мрачное выражение лица на улыбку. Вы можете совершить великие деяния. Можете достичь известности, и презрение, которое раньше встречало вас, сменится покорностью у ваших ног. Здесь возможна любовь, и сильная любовь, основанная на восхищении какими-нибудь интеллектуальными или даже физическими качествами, если вы доказали, что ими обладаете. Это любовь, руководимая разумом, а не загадочный инстинкт, управляющий любовью, о которой мы говорили раньше. В какой любви мужчины добиваются величайшего торжества? Какой любовью они больше всего гордятся? Первой? Увы, нет; и пусть Тот, кто создал нас, ответит почему; но я никогда не встречал мужчину, который предпочел бы, чтобы его любили за ум, а не за свойства характера. Вы можете негодовать из-за этих моих слов. Можете отрицать их. Но они истинны. О, нет большей радости, нет более волнующего торжества, чем когда мы прижимаем к груди дрожащую маленькую пленницу, чье сердце охвачено чистой девичьей любовью.
Такие мысли пришли мне впоследствии. В то время, о котором я пишу, я был слишком молод, чтобы иметь их; слишком неопытен в искусстве любовной дипломатии, однако я все же думал об этом и непрерывно изобретал планы, которые помогли бы мне понять, действительно ли она меня любит.
В доме была гитара. В колледже я научился играть на ней, и звуки гитары радовали Зою и ее мать. Я пел им песни – свои и песни любви; и с бьющимся сердцем следил, производят ли на нее впечатление горячие слова. И не раз с разочарованием откладывал инструмент.
День за днем приходили мне в голову невеселые размышления. Может, она слишком молода, чтобы понять слова любви? Слишком молода, чтобы произносить такие слова со страстью? Ей всего двенадцать лет, но она дитя солнечного климата; и я часто видел, что под теплым небом Мексики девушки ее возраста становились молодыми женами и матерями.
День за днем мы оставались наедине. Ботаник был занят своими исследованиями, а молчаливая мать занималась делами по хозяйству.
Любовь не слепа; она может ничего не видеть во всем мире, но по отношению к своему объекту она бдительна, как Аргус.
* * *
Я хорошо владел цветными карандашами и забавлял свою спутницу, делая рисунки на листах бумаги и на чистых страницах ее нот. На большинстве этих рисунков женские фигуры в разных позах и нарядах. Но в одном отношении они были похожи: у них у всех было одно и то же лицо.
Девочка, не догадываясь о причине, заметила эту необычную особенность рисунков.
– Почему? – спросила она однажды, когда мы сидели вместе. – Эти дамы в разных костюмах, они разных национальностей, верно? Но почему их лица так похожи? У них похожие черты лица, нет, те же самые, мне кажется.
– Это твое лицо, Зоя: никакое другое я не могу рисовать.
Она подняла свои большие глаза и посмотрела на меня с выражением невинного удивления. Она покраснела? Нет!
– Они похожи на меня?
– Да, насколько я смог это передать.
– А почему вы не рисуете другие лица?
– Почему? Потому что я… Зоя, боюсь, ты меня не поймешь.
– О, Энрике, неужели вы считаете меня такой плохой ученицей? Но я понимала все, когда вы рассказывали о странах, в которых побывали. Я могу понять и это.
– Тогда я скажу тебе, Зоя.
Я наклонился вперед, сердце мое билось, голос дрожал.
– Потому что твое лицо всегда передо мной; я не могу рисовать никого другого. Я… я люблю тебя, Зоя!
– О! Так вот в чем причина? Когда кого-то любишь, его лицо всегда перед тобой, хотя его самого может и не быть? Это так?
– Это так, – ответил я с горьким разочарованием.
– Это и есть любовь, Энрике?
– Да.
– Тогда я тоже должна вас любить; где бы я ни была, я вижу ваше лицо; оно всегда передо мной. Если бы я могла рисовать, как вы, я бы тоже могла вас нарисовать, даже если вас нет рядом. Что это значит? Вы думаете, что я люблю вас, Энрике?
Ни одно перо не сможет описать мои чувства в этот момент. Мы сидели на скамье, и листы с рисунками лежали между нами. Моя рука двигалась по этим рисункам, пока не сжала пальцы моей спутницы; она не противилась. Дикое чувство охватило меня от этого электрического прикосновения; бумага упала на пол, и с бьющимся, но гордым сердцем я привлек Зою к себе!
Сопротивления не было. Наши губы слились в первом поцелуе; это был поцелуй взаимной любви. Я чувствовал, как бьется ее сердце, как и мое в груди. О радость! Радость! Я владыка этого маленького сердца!
Глава пятнадцатая
Свет и тень
Дом, в котором мы жили, стоял на наклонном прямоугольном участке, спускающемся к реке Дель Норте. Участок огражден глиняной стеной, и на нем большой сад. Вдоль стены высажены ряды больших кактусов, и их колючие ветви создают непроходимую преграду. На участок можно попасть только через один вход, перегороженный прочными воротами; я заметил, что ворота эти всегда заперты. У меня не было желания выходить через них. Поэтому мои прогулки ограничивались садом; мы часто гуляли по нему с Зоей и ее матерью, но чаще только с Зоей.
В этом месте было много интересного. Место запущенное, да и сам дом когда-то знавал лучшие времена. Дом большой, в мавританско-испанском стиле, с плоской крышей (azotea) и зубчатым парапетом вокруг. Маленькие каменные башенки на этом парапете местами обвалились – еще одно свидетельство запущенности и невнимания.
То же самое заметно и в саду: однако видно, что когда-то о нем заботились. Упавшие статуи, пересохшие фонтаны, разрушенные беседки, поросшие травой дорожки – все говорило о прошлом величии и нынешнем небрежении. Было много деревьев редких и экзотических пород, но их листва и плоды говорили об одичании; все заросло, и ветви деревьев переплетались друг с другом. И однако во всем была какая-то вольная красота, сама эта дикость очаровывала. Воздух всегда насыщен ароматом тысяч цветов.
Стена сада выходила на реку, со стороны реки ее не было, потому что спуск к реке крутой, почти вертикальный. Здесь река глубокая и сама образует достаточную преграду.
На берегу росла роща тополей, в ее тени несколько каменных скамей тоже в своеобразном испанском стиле. В крутом береге вырублены ступеньки, ведущие к воде; вся эта лестница закрыта ветвями кустов. Я заметил маленькую лодку у причала под ивами, лестница как раз вела к этому причалу.
Только с этого места можно было увидеть окрестности за пределами стены. Вид величественный, и извивы Дель Норте можно проследить на много миль.
Местность за пределами сада кажется дикой и ненаселенной. Почти повсюду растут тополя и бросают мягкую тень на реку. На юге над деревьями видно единственное строение. Это церковь города Эль Пасо Дель Норте; на фоне далекого неба видны также винные погреба этого города. Но востоке Скалистые горы, загадочный хребет Органос; здесь горное озеро с убывающими приливами вызывает у одинокого охотника суеверный страх. На западе в дымке едва видны два параллельных хребта Мимбрес; в пустынных проходах этих хребтов редко бывают видны люди. Даже безрассудные трапперы поворачивают назад, дойдя до земель, уходящих на север от Гилы. Это земли апачей и людоедов навахо.
* * *
Вечерами мы уходили в тополиную рощу и, сидя на одной из скамей, смотрели на сверкающий закат. В это время дня мы были здесь одни, я и моя маленькая спутница.
Я называю ее своей маленькой спутницей, хотя тогда мне казалось, что она неожиданно выросла, приняла формы и очертаний женщины! В моих глазах она больше не была ребенком. Фигура у нее изменилась, грудь выше вздымалась при дыхании, а движения ее казались мне женственными и властными. Лицо стало светлей, и от него исходило сияние. Свет любви струился из ее больших карих глаз. Изменились ее тело и дух. Это было таинственное преобразование, вызванное любовью. Теперь она оказалась под властью бога любви!
* * *
Однажды вечером, как обычно, мы сидели в торжественной тени рощи. Мы принесли с собой гитару и бандолу, но после нескольких нот музыка была забыта, инструменты лежали на траве у наших ног. Нам нравилось слушать музыку своих голосов. Мы предпочитали выражение своих мыслей песням, пусть даже сладким. Вокруг нас было достаточно музыки: жужжание дикой пчелы, когда она прощается с закрывающимся цветком; крик журавля в далекой осоке; мягкое воркование голубей, сидящих парами на ветвях, словно шепчущих друг другу о любви.
Осень окрасила листву деревьев во все цвета. Тени высоких деревьев пятнами падали на воду, и под ними неслышно двигалось течение. Солнце садилось, и шпиль церкви в Эль Пасо горел, как золотая звезда, под его прощальными лучами. Наши взгляды упали на этот купол.
– Церковь! – сказала моя спутница. – Я почти не знаю, что это такое. Я очень давно там не была.
– Как давно?
– О, много, много лет! Я тогда была маленькой.
– И ты все время, пока живешь здесь, не была там?
– Да! Папа возил нас вниз по реке в лодке, маму и меня, но это было давно.
– А ты не хочешь побродить в этих лесах?
– Нет, не хочу. Мне хорошо здесь.
– Но разве тебе всегда будет здесь хорошо?
– А почему нет, Энрике? Когда ты рядом со мной, почему я не могу быть счастлива?
– Но когда…
Как будто какая-то темная мысль пришла ей в голову. Неопытная в делах любви, девушка никогда не думала о том, что я могу ее покинуть. Да и я об этом не думал. Щеки ее неожиданно побелели, и я видел боль в ее взгляде, упавшем на меня. Но на молчала.
– Когда я должен буду оставить тебя?
С коротким резким возгласом она бросилась ко мне на грудь, словно ее ударили в сердце, и страстно сказала:
– О, мой бог! Мой бог! Оставить меня? Ты ведь не оставишь меня? Ты, кто научил меня любить! О! Энрике, зачем ты говорил, что любишь меня? Зачем научил меня любить?
– Зоя!
– Энрике, Энрике, скажи, что ты никогда не оставишь меня!
– Никогда! Зоя! Клянусь: никогда, никогда!
Мне показалось, что в этот момент я услышал звук весла; но смятение в мыслях и близость любимой, крепко обнимавшей меня, не позволили мне поднять голову и посмотреть на берег. Это нырнула в воду скопа, подумал я. И, забыв об этом, отдался долгому и страстному поцелую. Но поднял голову, когда мое внимание привлек какой-то объект, появившийся над берегом. Это было черное сомбреро с золотой лентой. Я с одного взгляда понял, кто это: Сеген!
Через мгновение он был рядом с нами.
– Папа! – воскликнула Зоя, оторвавшись от меня и протягивая руки, чтобы обнять его.
Отец отвел ее в сторону и одновременно крепко схватил за руку. Несколько мгновений он молчал и смотрел на меня с выражением, которое я не мог понять. В этом взгляде была смесь укора, печали и негодования. Я встал, чтобы противостоять ему, но под его взглядом смущенно молчал.
– Так вы меня благодарите за то, что я спас вам жизнь? Щедрая благодарность, добрый сэр, как вы считаете?
Я ничего не ответил.
– Сэр! – продолжал он; голос его дрожал от эмоций. – Вы меня глубоко обидели.
– Это не так. Я ничем вас не обидел.
– А это вы как назовете. Шутками с моей девочкой?
– Шутками? – воскликнул я. Обвинение вызвало у меня прилив храбрости.
– Да, шутками! Разве вы не вызвали ее страсть?
– Я сделал это честно!
– Тьфу, сэр! Это не женщина, а ребенок. Честно вызвали? Что она может знать о любви?
– Папа! Я знаю, что такое любовь! Я уже много дней ее чувствую. Не сердись на Энрике, папа, потому что я его люблю. О, папа, я люблю его всем сердцем!
Он удивленно посмотрел на нее.
– Вы слышите это? – воскликнул он. – И это ребенок, мой ребенок!
Голос его хлестнул меня, потому что был полон боли.
– Послушайте, сэр! – воскликнул я, встав прямо перед ним. – Я заслужил любовь ваше дочери. Я дал ей в обмен свою любовь. Я равен ей, как она равна мне. Какое преступление я совершил? Чем я вас обидел?
Он несколько мгновений, не отвечая, смотрел на меня.
– Значит, вы женитесь на нет? – спросил он наконец, и манеры его явно изменились.
– Если бы я довел нашу любовь до этого без такого намерения, я бы заслужил ваши укоры. Я бы «шутил», как вы выразились.
– Жениться на мне? – удивленно спросила Зоя.
– Слышите? Бедное дитя, она не знает, что значит это слово.
– Да, любимая Зоя! Если не женюсь, мое сердце будет навсегда разбито. О, сэр!
– Хватит, сэр. Вы завоевали ее, теперь вам еще предстоит отвоевать ее у меня. Я проверю глубину вашей страсти. Я потребую у вас доказательств.
– Требуйте любое доказательство!
– Посмотрим. Пошли, Зоя.
И, крепко держа ее за руку, он повел Зою к дому. Я пошел за ними.
Когда мы проходили мимо диких апельсиновых деревьев, тропа сузилась, и отец, выпустив руку дочери, прошел вперед. Зоя оказалась между нами; и когда мы дошли до середины рощи, она неожиданно повернулась, взяла меня за руку и дрожащим голосом сказала:
– Энрике, объясни мне, что значит «жениться».
– Дорогая Зоя, не сейчас. Это очень трудно объяснить. В другой раз…
– Пошли, Зоя! Дай мне руку, девочка!
– Папа, иду!
Глава шестнадцатая
Автобиография
Я был наедине с хозяином в комнате его дома, в которой жил. Женщины ушли в другую часть дома; я заметил, что Сеген, войдя, тут же запер дверь в комнату.
Какое ужасное доказательство моей веры, моей любви собирается он потребовать? Хочет отнять жизнь или связать меня какой-то страшной клятвой, этот человек, совершивший много жестоких поступков? Мрачные подозрения проносились в моем сознании, и я молчал, но мне было страшно.
Сеген поставил на стол бутылку вина, заполнил два стакана и предложил мне выпить. Это вежливое предложение несколько успокоило меня. «Но что если вино отр…» Он выпил свое вино, прежде чем эта мысль сформировалась у меня в голове.
Я тоже выпил. Это позволило мне почувствовать себя уверенней и спокойней.
После недолгого молчания он начал разговор неожиданным вопросом:
– Что вы знаете обо мне?
– Ваше имя и занятие, ничего больше.
– Больше, чем предполагают здесь. – Он многозначительно показал на дверь. – Кто рассказал вам обо мне?
– Друг, которого вы видели в Санта-Фе.
– А! Сент-Врейн, смелый человек. Я встретил его в Чихуахуа. Кроме этого, он еще что-нибудь рассказал обо мне?
– Нет. Обещал рассказать подробности, но потом мы забыли, караван ушел, и мы разделились.
– Значит, вы слышали, что я Сеген – охотник за скальпами. Что меня наняли жители Эль Пасо для охоты на навахо и апачей и что мне платили определенную сумму за каждый индейский скальп, который я мог повесить на ворота города? Вы все это слышали?
– Да?
– Это правда.
Я молчал.
– А теперь, сэр, – продолжил он после паузы, – женитесь ли вы на моей дочери, дочери массового убийцы?
– Она не совершала преступления. Как вы сказали, о ваших преступлениях она даже не знает. Возможно, вы демон; она ангел.
Лицо его было печально.
– Преступления! Демон! – негромко произнес он, словно разговаривал сам с собой. – Да, вы можете так считать; так считает весь мир. Вы слышали преувеличенные рассказы жителей гор. Вы слышали, что во время перемирия я побывал в деревне апачей на пиру и отравил вино, отравил всех гостей: мужчин, женщин, детей, – а потом скальпировал их! Вы слышали, что я уговорил двести дикарей, которые не знали, что это значит, потянуть за гайдроп пушки; потом выстрелил из заряженной пушки и убил целый ряд этих ничего не подозревающих бедняг! Вы, несомненно, слышали, об этих и других бесчеловечных делах?
– Да, я слышал эти истории от горных охотников, но не знаю, верить ли им.
– Мсье, все это ложь, все ложь и совершенно безосновательная.
– Я рад это слышать. Теперь я не могу поверить, что вы способны на такое варварство.
– И однако, если бы они были правдивыми во всех ужасных подробностях, они не превосходили бы жесткости, которую проявляет свирепый враг беззащитных обитателей этого фронтира. Если бы вы знали историю этой земли за последние десять лет, все бойни и жестокие убийства, все ее слезы и горести, все пожары, ее разграбления и насилия: целые провинции обезлюдили; деревни, сгоревшие дотла; мужчины, убитые прямо у своих очагов; женщины, прекрасные женщины, похищенные, уведенные в горы, чтобы удовлетворить похоть похитителей! И я совершал поступки, возможно, равные этим в ваших глазах или даже в глазах неба!
