Читать онлайн Просто Маса бесплатно
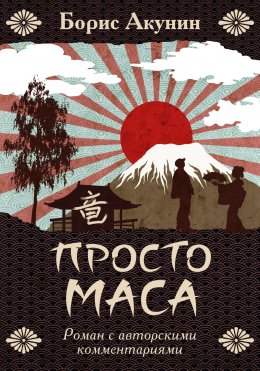
序幕
Пролог
Великий Тацумаса
Вечер рэнга
Тацумаса проснулся на несколько минут раньше обычного – над ухом нудел комар. Вот уже и лето, пора жечь сушеные лепестки хризантемы, подумал мастер. Москитных сеток он не любил, от них такая духота.
Маленький кровосос уселся лежащему на кончик носа, готовясь вонзить жальце. Тацумаса осторожно сдул насекомое, ибо никого нельзя лишать жизни, даже комара. Зевнул, с наслаждением потянулся. Смена времен года – это так приятно. Скоро природа умоется прозрачными [1], а потом покроется испариной жары, которая тоже по-своему прекрасна, ибо располагает к несуетливости.
Некоторое время Тацумаса просто любовался игрой теней на сёдзи. Они были пурпурными от заката, а в саду росла береза, и ее ветви слегка покачивались под вечерним ветром. Редкое белоствольное дерево, давний подарок одного самурая из северного княжества Мацумаэ, вытянулось кверху, поднялось над крышей и стало достопримечательностью всего Кидзитё, Фазаньего квартала. Усадьбу теперь называли Домом-под-березой, а ее хозяина – «Сиракаба-но Тацумаса», «Березовым Тацумасой». Это имя ему нравилось.
Но вот со стороны улицы донесся звонкий перестук. Квартальный [2] шел по улице, гремел своей колотушкой, извещая жителей о наступлении [3]. Пришло время вставать.
В коридоре под легкими, мелкими шагами жены запели доски «соловьиного» пола. Особый настил, по которому невозможно ступать бесшумно, окружал спальню со всех сторон. Никто не смог бы подкрасться к хозяину дома незаметно.
Зная, что муж уже проснулся, О-Судзу все же деликатно кашлянула за перегородкой и лишь потом ее отодвинула. Когда разогнулась после поклона, Тацумаса уже сидел на [4].
– Добрый вечер. Как я рад тебя видеть, – улыбнулся он.
Это было правдой. Он всегда радовался, когда ее видел. Супруги жили каждый своей жизнью: жена – дневной, муж – ночной. Встречались они дважды в сутки – на закате и на рассвете. Радостной была каждая встреча.
Нежно улыбалась и О-Судзу. Из-за того что Тацумаса никогда не смотрел на нее при ярком свете дня, морщины на ее лице были почти незаметны, складки на шее едва видны, и жена казалась все такой же молодой. А ведь она была двумя годами старше. Они прожили вместе почти тридцать лет.
– На счастье, погода ясная. Значит, луна будет хорошо видна, – сказала О-Судзу после обычного приветствия и расспросов о сновидениях. – Вы ведь помните, что нынче у нас вечер поэзии. Угодно ли вам проверить, хорошо ли я всё приготовила?
Она поставила на татами лаковый таз с водой, и Тацумаса стал умываться. На вежливый вопрос он только хихикнул. Приготовления О-Судзу, к чему бы она ни готовилась, всегда были безупречны.
Ясное небо в полнолуние – драгоценный подарок. Как впрочем и облака, сквозь которые так волшебно просачивается небесный свет. Тацумаса радовался всякой погоде. Если, конечно, это не тайфун или цунами.
– Снова вечер рэнга? Превосходно! – Поэтические вечера в Доме-под-березой происходили раз в месяц, каждое полнолуние. Тацумаса любил эти праздники еще и за то, что они позволяли насладиться обществом О-Судзу дольше обычного. – Кто придет?
– Прислали подтверждение Орин-сан и сенсей Саяма. И на всякий случай я приготовила место для какого-нибудь нежданного гостя. Сегодня ведь последнее весеннее полнолуние, когда старым знакомым разрешается «упасть с неба» – прийти без объявления.
– Умница, что предусмотрела это, но уж совсем-то с неба никто не упадет, – засмеялся Тацумаса. – На обоих перекрестках дежурят ученики. Предупредят. Что произошло за день?
Сначала, как водится, жена рассказала про незначительное – про всякие домашние, хозяйственные мелочи. Тацумаса задавал вопросы, ему все было любопытно, а больше всего нравилось слушать голос О-Судзу. Но в конце она сказала про важное: у ребенка наконец режется первый зуб. Давно пора бы, ведь малютке уже годик. Бедняжка сердится, бьет себя кулачком в щеку.
– Не плачет? – одобрительно молвил Тацумаса. Сын у него был особенный: если что-то не так, грозно орал, а плакать не плакал. В шестимесячном возрасте отец нанес ему на животик родовую татуировку, красного дракона, – кроха весь извопился, но не уронил ни слезинки. Характер!
– Подожди минутку, я сейчас…
Мастер отлучился в уборную, но справил нужду без обычной неспешности, с созерцанием красоты сада, а наскоро. Не терпелось посмотреть на малыша.
Мальчик спал, хмуря лысые бровки. Он был само совершенство, просто маленький Будда.
– Левая щечка действительно стала еще круглее правой, – залюбовался Тацумаса. И, поскольку расхваливать собственного сына неприлично, сказал:
– Раньше он казался мне уродливым. Но теперь мальчишка все больше хорошеет, потому что делается похож на тебя. Не странно ли?
– Это неправда, и вам незачем это говорить, – усмехнулась О-Судзу, видя мужа насквозь. – Я и так люблю его всей душой.
У них была плохая карма с детьми. Восемь раз О-Судзу скидывала. Единственный ребенок, который родился живым, очень поздний, поманил счастьем, а принес горе. Три года назад, во время холерного поветрия, умер. И Тацумаса смирился с судьбой. Жена вышла из детородного возраста. Кровных наследников не будет. Что ж, значит придется усыновить старшего ученика Данкити и передать Дело ему.
Но как-то раз О-Судзу сказала: «Данкити-кун старателен, он усердно постигает науку, но преемника из него не получится. Осваивая технику, он не понимает духа Китодо. Все-таки лучше, когда это родная кровь. И воспитывать преемника надо с младенчества». Супруга всегда понимала (или улавливала инстинктом – у женщин не разберешь) важные вещи раньше Тацумасы. Он и сам чувствовал, что Данкити не тот, кому можно доверить школу. Шустрого мальчишку основатель Китодо когда-то подобрал в слободе [5] – за смелость, за дворняжью цепкость, за жадный блеск в глазах. Но в десятилетнем возрасте перевоспитывать уже поздно. Дворняжка много чему научилась, но так дворняжкой и осталась.
«Ты права, – грустно согласился Тацумаса. – Но что тут поделаешь?».
«Поручите это мне, – поклонилась О-Судзу. – Я что-нибудь придумаю». Муж ни о чем ее не спросил, хоть и знал: когда она так говорит, значит, уже придумала.
Вскоре, вернувшись домой с работы холодным зимним утром, когда еще темно, Тацумаса залез под одеяло, обнял жену – и отпрянул, потому что руки нащупали незнакомое тело, горячее и твердое. Кто-то испуганно дышал в темноте, блестел влажными глазами.
В страхе – не [6] ли прокралась в постель – Тацумаса бросился вон из комнаты и за порогом наткнулся на О-Судзу.
«Сделайте это ради меня, – низко поклонилась жена. – Просто представьте, что это я. Все равно ведь темно, а после она сразу уйдет».
Таких ночных, верней, предрассветных встреч было еще три, с перерывами в месяц. Потом супруга сказала: «Всё хорошо. Теперь только [7]».
Девушка, лица которой Тацумаса так и не увидел, а имени так и не узнал, родила двенадцать месяцев назад, в [8]. Дитя роженице не показали, чтобы не доставлять ей лишних страданий, а сразу унесли и передали кормилице. Мать же отправилась обратно в деревню, получив за работу щедрое вознаграждение, пять золотых [9] – будет богатой невестой. А в Доме-под-березой поселилось счастье.
Тацумаса ласково приоткрыл младенцу губки, сунул в ротик палец, пощупал десну. Когда сын спал, разбудить его было невозможно.
– Правда зуб! – прошептал мастер, блаженно жмурясь. – Острый, как у тигра.
– Ара! – всплеснула руками О-Судзу. – Скоро придут гости, а я, бестолковая, забыла [10]! И вам нужно одеться. Я приготовила вам темно-синее кимоно в цвет ночного неба и [11] с серебряным узором в цвет луны.
Убранство гостиной было идеальным для поэтического вечера, пришедшегося на поздневесеннее полнолуние. Свечи освещали только стол, чтоб не соперничать с небесным сиянием, когда придет время открывать сёдзи в сад. На столе – письменные принадлежности, табак и трубки, а также сезонное угощение: рисовые пирожные, мармелад в виде цветков сакуры и яблони, кувшинчики и чашки для сакэ. Благовонные палочки источали тонкий, неназойливый аромат свежей травы. Из деревянной лаковой клеточки доносилось умиротворяющее пение сверчков.
Первым, ровно с наступлением Часа Собаки, прибыл неизменно пунктуальный Саяма, знаменитый врач по внутренним болезням. Он всегда ходил пешком, в сопровождении двух слуг: один нес фонарь, другой зонтик. Время дождей еще не наступило, но сенсей без зонта из дому никогда не выходил, он был человеком твердых привычек. Приношение к столу Саяма вручил сам: парчовый узелок, в нем стеклянная банка с чем-то бордовым.
– Это засахаренная клубника, называется «дзяму». Я ездил за ней в Ёкохаму. Там открылся «хотэру», гостиница для иностранных моряков, и при ней есть лавка. Столько всего интересного! Попробуйте, попробуйте!
Ему не терпелось угостить хозяев заморским деликатесом. Сенсей был знатоком голландских наук и любителем всего чужеземного, человеком экзотических суждений и, случалось, нес ужасную чушь. Например, всерьез утверждал, что у ёкохамских варваров тоже есть своя культура, а не только арсенал технических трюков. И все же Тацумаса относился к чудаку с почтением. Саяма был достойнейший человек, только немножко утомительный. В стихосложении он, увы, мало что смыслил, но считал себя выдающимся поэтом и не пропускал ни одного вечера рэнга.
Тацумаса обмакнул палочку в подозрительную липкую массу, гадливо облизнул. Вкус и цвет у пресловутого «дзяму» был ужасающий: будто муха нажралась сахара и ее потом вырвало кровью. А учтивая О-Судзу поела и похвалила. У доктора от удовольствия глаза под толстыми стеклами, и так огромные, выпучились еще больше.
Потом прибыла в паланкине госпожа Орин – как всегда, ярко, шумно и празднично, в сопровождении разноцветных фонариков, под звон дорожных колокольчиков. Несли ее не мужчины, а крепкие носильщицы в нарядных кимоно. Такое уж у этой гостьи было ремесло – восхищать и поражать. В дневное время за ее кортежем обычно следовали зеваки.
Орин-сан была самой знаменитой куртизанкой [12]. За ночь с ней клиенты платили неслыханные деньги – по три рё, да она еще была и разборчива, принимала лишь тех, кто ей нравится.
Отношения со звездой «ивового мира» (так издавна называлось искусство покупной любви) у супругов тоже были давние. Несколько лет назад О-Судзу вдруг забеспокоилась, что их любовь стала чересчур пресной, и отправила мужа к прославленной мастерице за наукой. Тацумаса провел в гостях у Орин волшебную ночь, потом всё в подробностях пересказал жене, и после этого их любовная жизнь очень украсилась. Из благодарности О-Судзу пригласила куртизанку на поэтический вечер, и та сделалась постоянной гостьей.
Орин-сан была само очарование. С ее приходом гостиная будто озарилась радугой, наполнилась мелодичными звуками. Они изливались из куртизанки, будто из музыкальной шкатулки. Смеялась ли она, издавала ли восклицания или просто говорила – всё получалось диво, а когда в беседе возникала пауза, Орин подносила к губам маленькую флейту, всегда лежавшую в рукаве кимоно, и наигрывала что-нибудь короткое, прелестное.
Больше сегодня никого не ждали. Вечер рэнга, «цепляющихся строк», начался.
По правилам, установленным в Доме-под-березой, вначале хозяин наугад доставал листок из колоды карт [13] и зачитывал первые три строки какого-нибудь классического танка. Второй участник заканчивал пятистишье, экспромтом меняя две последние строки. Третий отталкивался от этих двух строк, присоединяя к ним собственное трехстишье. Четвертый прицеплял к трехстишью свои две строки. Так по кругу – три строки, две, три, две – и заплеталась рэнга, под неспешные разговоры, под сакэ, под любование луной.
На карте, которую вынул Тацумаса, оказалось стихотворение Фудзивары Асатады. Придворный кавалер, живший девять веков назад, оставил потомкам горькие строки:
- Ах, если б в жизни
- Ни с кем я не сближался,
- Не ведать мне бы
- Отвращенья ни к людям,
- Ни к собственной персоне.
Тацумаса переписал три первые строки на бумагу своим превосходным, щегольским почерком, потом продекламировал вслух. Концовку, конечно, опустил, но ее и так все знали.
Саяме как гостю-мужчине надлежало сочинять первым. Он окунул кисточку в тушь, забормотал: «Не ведать мне бы, не ведать мне бы…». Помогая ему войти в поэтическое настроение, Орин заиграла на флейте «Ветер в тростниках».
– Вот, готово! – воскликнул сенсей. – Послушайте.
- Ах, если б в жизни
- Ни с кем я не сближался,
- Не ведать мне бы
- Зараз, что переносят
- Брызги слюны больного.
– Западные медики установили, что зараза передается воздушно-капельным путем, – пояснил он и засмеялся, очень собой довольный.
Куртизанка шутливо стукнула его веером по запястью.
– Ара! Как вульгарно! Сиракаба-сама, спасайте стихотворение. Нужно что-нибудь возвышенное, весеннее!
Тацумаса поклонился, секунду подумал. Кисть размашисто прошлась сверху вниз.
- …Зараз, что переносят
- Брызги слюны больного
- Страшусь я меньше,
- Чем аромата азалий –
- Он навевает…
Этот прием, очень удобный для следующего участника, назывался «стрела на тетиву»: бери и стреляй в любую мишень. Орин – теперь был ее черед – оценила галантность, с поклоном отложила флейту, картинно приподняла правый рукав, дав всем полюбоваться умопомрачительным запястьем. Без малейшего колебания написала:
- Он навевает
- Томленье о том, кого
- Мне встретить не суждено…
О-Судзу – она сидела не за столом, а чуть в стороне, готовая подливать сакэ в опустевшую чашку – восхищенно вздохнула. Профессия Орин придавала вроде бы банальным строкам тонкий и глубокий смысл, намекая на то, что куртизанка не просто торгует своими ласками, а находится в вечном поиске идеальной любви, найти которую уже не надеется.
– Теперь прошу вас, – попросила Орин хозяйку. – Сакэ мужчинам буду наливать я.
Та поотнекивалась, потом согласилась и тоже села к столу. Это был всегдашний ритуал.
О томлении О-Судзу написала вот что:
- …Улетай прочь,
- Как под ветром лепесток,
- Вслед за юностью.
Это был намек на то, что Орин еще совсем молода, потому и томится несбывшимся. Куртизанка поняла и поблагодарила поклоном. Вдвоем, без мужчин с их грубым воображением, рэнга у них получилась бы много изысканней.
Доктор схватил листок.
– Моя очередь!
И запыхтел:
– Юность, что делать с юностью? … «Которая…». Нет, «Которой не жаль. Потому что умный человек…» – Стал считать слоги: должно было получиться пять, потом семь, потом снова пять. – Нет. «Ибо умный человек»… Да, вот так. Каково, а? Послушайте!
- …Которой не жаль,
- Ибо умный человек
- Ни о чем не жалеет.
– Будто молотком по наковальне. После такого и добавить нечего. [14] не идет вам на пользу, – наморщила носик Орин. Она Саяму вечно поддразнивала, это всех веселило. – Господин Береза, выкручивайтесь. А я вам сыграю «Водовороты под луной». Кстати, не пора ли раздвинуть ширмы? Мне кажется, в саду уже светло.
Но сёдзи приоткрылись со стороны прихожей. В щель заглянул Данкити, который сегодня встречал гостей и заботился об их слугах. По лицу ученика Тацумаса понял: что-то произошло. Извинившись, он вышел.
– Учитель, сюда направляется паланкин Касидзавы! – зашептал Данкити. Его худое горбоносое лицо казалось застывшим. Парень он был нервный, очень старался себя сдерживать и в минуты волнения делался просто каменный. – Караульщик прикинулся, что на рогатке заело засов. Это их ненадолго задержит.
С Тораэмоном Касидзавой, советником его светлости Южного Губернатора, у мастера отношения были очень непростые. Внезапное ночное появление человека, который столько лет мечтал упечь Тацумасу за решетку, было событием тревожным.
– Касидзава-доно со стражниками или только со слугами?
– Ребята про стражу ничего не говорили, – ответил Данкити, и Тацумаса немного успокоился.
– Пойди, помоги караульщику открыть запор. Неудобно заставлять такого человека ждать.
Фазаний квартал на ночь запирался с обеих сторон, а караульные были людьми преданными.
Но выполнять распоряжение ученику не пришлось. В калитку уже входил Касидзава. Когда требовалось, он обходился без церемоний: просто вылез из носилок и прошел двести шагов пешком.
– А-а, вы вышли меня встретить? – сказал он. Мрачное лицо чуть тронула усмешка. – Право, не стоило беспокоиться. Ничего что я без приглашения? Сегодня ведь можно? Мы старые знакомые, в небе полная луна, и я тоже люблю стихи.
– Сейчас время Северного управления, и у меня много свободного времени, – продолжил Касидзава, вынимая из-за пояса длинный меч и передавая его Данкити. с [15] господин советник никогда не расставался. – Можно и отоспаться, и заняться любимыми досугами. Благодать!
Столичным городом Эдо управляли два губернатора-бугё, Южный и Северный, но свои полномочия они делили не по территории, а по времени. Месяц начальствовал один бугё, месяц – другой. Эта система позволяла избегать злоупотреблений, неизбежных при единоличной власти. Конечно, из-за этого вдвое увеличивался штат чиновников, но в городе жило множество самураев, которых нужно было занять работой.
Про Тораэмона Касидзаву, формально занимавшего скромную должность советника, все знали, что настоящим губернатором является он, а не его высокородный и праздный начальник.
Замечание о «любимых досугах» мастера насторожило. У них с Касидзавой шла давняя игра в кошки-мышки: один ловил, другой ускользал. Оба получали от этого сложного балета удовольствие, но для мышки он мог окончиться печальнее, чем для кошки. Правда, господин советник всегда играл по правилам, а это значило, что Тацумасу ему никогда не одолеть. Настоящий мастер не совершает ошибок.
И все же Касидзава явился неспроста. За что-то уцепился? Неужто остался какой-то след после новогоднего визита в сокровищницу ссудного дома «Цуцуи»? Если и так, советник сразу не скажет – он человек хорошего воспитания.
Не стал торопить события и хозяин.
– А вот и «упавший с неба» гость, дорогой гость. Ты хорошо сделала, что приготовила для него место, – похвалил Тацумаса жену и представил советника другим гостям.
Оказалось, что Касидзава наслышан об обоих. Оно и неудивительно. Про господина советника говорили, что он знает каждого [16]. Конечно, это преувеличение, но Касидзава знал всех, кого стоит знать. И знаменитый доктор, и прославленная куртизанка несомненно входили в эту категорию.
По правилам «упавший с неба», да еще явившийся с опозданием, в качестве штрафа должен был дописывать стихотворение без подготовки и не заглядывая в правую часть листка. Поэтому Орин, на сей раз обнажив оба белейших запястья, завернула край свитка и с поклоном подала его Касидзаве.
Отпив сакэ, господин советник одним глазом покосился на кривоватый почерк Саямы.
– «Умный человек ни о чем не жалеет?». Значит, я дурак. Только и делаю, что сокрушаюсь о своих ошибках. Позвольте-ка…
И вывел скользящей скорописью:
- Кроме потерянного
- На пустяки времени.
Тацумаса поймал быстрый взгляд жены. Взгляд означал: «У него срочное дело. Это не к добру». Поняла намек и Орин – это было частью ее искусства.
Она покачнулась, прикрыла лицо рукавом.
– Ах, у меня в последнее время такие тяжелые месячные! То мутит, то тошнит, то вдруг спазмы в голове. Очень стыдно портить праздник, но, боюсь, мне придется вас покинуть. Доктор, пожалуйста, отведите меня к паланкину. Я обопрусь на ваш локоть.
Тацумаса как хозяин тоже пошел провожать занемогшую гостью, встав с другой стороны и подставив не локоть, а плечо – он был мал ростом, ниже госпожи Орин.
Во дворе куртизанка, конечно, упросила сенсея отправиться к ней в особняк для врачебного осмотра. Сам доктор при его бестактности и любопытстве нипочем бы не ушел. Он попытался отговориться, сказавши, что судя по цвету ногтей, зубов и белков глаз почтенная госпожа пребывает в отменном здравии и проживет сто лет, но от Орин-сан отделаться было непросто.
В гостиную Тацумаса вернулся один и нашел там только господина советника. Деликатная О-Судзу под каким-то предлогом удалилась. Хозяин догадывался, куда – в соседнюю комнату, откуда будет отлично слышно каждое слово.
Разговор без церемоний
– Мне жаль, что я распугал ваших гостей, испортил поэтический вечер и все такое прочее, – сказал господин Касидзава. – Однако позвольте обойтись без длинных извинений и церемоний.
Ишь как ему не терпится, даже об учтивости забыл, подумал хозяин. Но так оно было и проще.
– Без церемоний так без церемоний, – молвил Тацумаса, не скрывая холодной ярости. – Я знаю, что вы желаете меня погубить, однако до сих пор держал вас за человека воспитанного. Если вам наконец удалось вооружиться против меня какими-то доказательствами, совершенно необязательно вторгаться в дом среди ночи, на глазах у жены и гостей. Вы могли бы прислать вызов, и я пришел бы сам.
Когда-то – оба в ту пору были много моложе – у них уже случился один такой «разговор без церемоний». Касидзава тогда попытался припереть мастера к стенке, потерпел сокрушительное фиаско и в сердцах пообещал положить жизнь, но разгромить школу Китодо, «Благородного воровства», а ее создателя выставить на позор перед всем светом и сгноить в тюрьме.
Теперь же господин советник выслушал упрек с удивленно приподнятыми бровями.
– Уверяю вас, вы заблуждаетесь. Мы так давно не беседовали по душам. Прежде я был неопытен и глуп. Когда я лучше узнал жизнь, мои взгляды на общество переменились. Я вовсе не испытываю к вам ненависти и совершенно не желаю вашей гибели. Даже странно, что вы этого не чувствуете по моему поведению. Конечно, я не спущу вам небрежности или ошибки – это мой долг. Но разве эта опасность не понуждает вас постоянно оттачивать свое искусство? Затем и волк в лесу, чтоб олень не толстел.
– Прошу вас, продолжайте, – сказал Тацумаса, когда собеседник сделал паузу. – Как именно переменились ваши взгляды? И когда?
– Это произошло восемь лет назад, в шестой год эры Каэй, когда в наш мир вторглись [17]. Грубая, чужая сила, против которой не было защиты, под дулами своих огромных пушек заставила нас открыть страну Хаосу. Вот кто настоящий враг [18] – прилетевший издалека заморский Дракон, а вовсе не ваш тактичный Тацу, который обкрадывает лишь тех, кого грех не обокрасть.
Господин советник улыбнулся, обнажив острые зубы. Он намекал на то, что герб мастера Китодо – [19].
– Как это называется в вашей доктрине? «Три канона и одно правило»?
– «Три правила и один канон», – поправил хозяин. – «Не красть у своих; не красть у хороших людей; не красть у тех, у кого и так мало» – это три правила. А канон: «Кто верит в Будду, ни у кого не отнимает жизни»…
Тацумаса задумчиво смотрел на самурая. А ведь действительно – в последние годы от господина Касидзавы не было особенной докуки.
– Значит, вы сегодня пожаловали не из-за новогоднего происшествия в ссудном доме «Цуцуи»?
Советник рассмеялся.
– Мы, конечно, нашли в пустом хранилище ваш автограф, но никаких следов не обнаружили. Изящная работа! Честно говоря, так им, ростовщикам, и надо – они дерут грабительскую мзду. Сколько вы с них взяли за возврат украденного? Спрашиваю сугубо из любопытства.
– Как обычно, четверть, – поколебавшись, ответил Тацумаса. – Кроме того они пообещали брать вдвое меньший процент с вдов.
– И половину добычи вы, как водится, раздали беднякам? Это ваше обыкновение поначалу ставило меня в тупик. Потом я понял: вы делаете это, потому что ваша лучшая защита – любовь простонародья. Никто никогда не выдаст властям благородного вора Тацумасу, и все считают за честь ему помогать. Хитро!
За бумажной стенкой скрипнула циновка. Это возмущенно шевельнулась подслушивающая О-Судзу. Она-то знала, что муж помогает обездоленным не из хитрости, а следуя духу Китодо. Но что взять с чиновника? Ворона все оценивает по-вороньи.
– А еще я пришел к убеждению, – посерьезнел господин Касидзава, – что не всякое нарушение существующих законов – Зло. Не давать полю зарасти сорняками, как это делаете вы, даже полезно. Нет, уважаемый сенсей, вы мне не враг. Мой враг – истинное Зло. Вроде банды подлого негодяя Кровавой Макаки. Но ведь вы тоже с ним воюете?
– Да, мы с господином Тадаки не любим друг друга, – сдержанно ответил Тацумаса, ибо говорить грубое про человека, которого удостаиваешь вражды, – себя не уважать.
– Отчего же вы упорно отказываетесь мне помочь в его поимке?
– Я вор, а не доносчик.
«И со своими врагами разбираюсь сам», – мысленно добавил мастер.
– Ну, дело ваше, – вздохнул Касидзава. – Меня сейчас больше занимает борьба не со Злом, а с Хаосом. Он много опасней. Вы не возражаете, если я немного пофилософствую?
– Сделайте милость.
Господин советник затянулся трубкой, щурясь на огонек свечи.
– Наши предки большими жертвами, огромным трудом, кровью и пóтом установили в стране Ямато почти идеальный Порядок. Мы живем по установленным правилам, разумным и удобным. Мы заботливо пестуем культуру, искусства и ремесла. Всё у нас логично, всё осмысленно. Дух нации обитает в императорском Киото, разум нации – в сёгунском Эдо. Тело нации – [20], их двести с лишним, как больших и маленьких костей в человеческом скелете. Конечно, Япония не рай, но это наш дом, наша крепость. Мудрые предки затворили ее от внешнего мира, чтобы он не мешал жить, как нам нравится. Мы – архипелаг, со всех сторон окруженный океаном. Имя океану – Хаос. Он насылает на нас тайфуны и цунами. На эти нежданности мы отвечаем тем, что стараемся сделать наше существование сколь возможно более предсказуемым. Мы не меняемся, мы всегда те же. Мы живем так уже десять поколений. По переписям видно, что за два века не изменилась даже численность нашего населения – это всё те же двадцать миллионов человек. И каждый знает свое место, свои обязанности. Каждый находится под присмотром и под защитой. Иногда рождаются люди, не желающие подчиняться существующим законам, но и они не могут жить без правил – изобретают собственные, тем самым лишь разнообразя общую гармонию…
Он выразительно посмотрел на Тацумасу. Тот признательно склонил голову.
– Но вот Хаос-Океан дунул ветром, который надорвал наши хрупкие сёдзи. Пока мы лелеяли нашу стабильность, внешний мир не стоял на месте. Он воевал, корчился, грыз сам себя – и в этих судорогах развивался. Он отрастил себе стальные клыки и огненные зубы. Мы были вынуждены открыть наши порты для иностранных варваров – иначе они поступили бы с нами, как с Китаем. Но значит ли это, что Хаос победит?
Тацумаса молчал. Пусть господин советник ответит сам – тогда станет ясно, к чему он клонит.
– Нет. Победим мы. Потому что настоящая сила не в пушках и паровых машинах, а в культуре, дисциплине, крепости духа. В готовности пожертвовать жизнью ради чего-то большего, чем твоя жизнь. По этим качествам мы определенно превосходим и нахрапистых америкадзинов, и хозяев моря игирисудзинов, и «красных айну» из [21]. Чтобы одолеть их, нам не хватает только одного: изучить их повадки, выведать их секреты, понять устройство их ума, разобраться в их хитрых изобретениях.
Теперь Мастер начинал догадываться о цели ночного визита. И господин Касидзава тут же подтвердил верность предположения.
– Помните, как во время второго пришествия «черных кораблей» я от имени правительства попросил вас исполнить патриотическое поручение?
Ах вот оно что, кивнул сам себе Тацумаса.
Тогда, в седьмом году эры Каэй[22], шесть с половиной лет назад, он должен был пробраться на главное судно варваров и выкрасть их загадочный кэндзю, позволяющий произвести несколько выстрелов подряд. Задание было благополучно исполнено. Умельцы из сёгунского арсенала разобрали железное оружие с круглым барабаном на части и научились делать точь-в-точь такие же. Правда, вскоре самурай-заговорщик застрелил из подобной штуки его высокопревосходительство господина премьер-министра[23], но это уже не вина мастера Тацумасы.
– После того случая я стал считаться у вашего начальства специалистом по обкрадыванию варваров? Вы хотите, чтобы я опять у них что-то спер? – кисло спросил Тацумаса.
Он нарочно употребил вульгарное слово, потому что такого рода операции не достойны называться благородным термином «кража». И недовольно прибавил:
– Иностранцы теперь живут на берегу, обворовать их нетрудно. С этим могут справиться даже ваши шпионы.
– Нет. Красть ничего не нужно. Во-первых, воровство на японской земле было бы позором для отечества. А во-вторых… – Советник заколебался. – Тут всё гораздо сложнее. Мы сами не знаем, как подступиться к этой задаче. Давайте я ее опишу. Может быть, вы что-нибудь придумаете.
Он рассказал, что правительство ведет долгие и трудные переговоры с посланником страны Игирису о будущих торгово-таможенных отношениях. От условий этого соглашения зависит очень многое. Но никто не знает, чего можно добиться от варваров, а чего нельзя, какие требования будут достижимыми, а какие невыполнимыми. И так по десяткам, по сотням пунктов. Существует две опасности: либо завысить свои притязания – и остаться ни с чем, либо занизить их – и нанести казне убыток.
Посланник Ору-Коку[24] действует не по собственному разумению. Лазутчики разузнали, что у него имеется подробный документ от правительства, где на многих страницах расписано, чем и до какой степени можно поступиться. Эта заветная грамота называется «Инсу-тора-кусён» (Касидзава прочел трудное слово по бумажке). Если добыть и перевести секретный документ, Япония не совершит ошибок и добьется предельно возможных выгод. Но как выглядит «Инсу-тора-кусён» и где он находится, неизвестно. Временная резиденция посланника Ору-Коку расположена в бывшем храме Тодзэндзи. Прислуга перерыла там всё – тщетно. Тогда Касидзава нанял тайную секту «крадущихся», но и они ничего не нашли…
– Эти умеют находить черную кошку в темной комнате, только когда она там есть, – не удержался от комментария Тацумаса. Его всегда раздражал всеобщий пиетет перед ниндзя. – Крадущиеся хорошо крадутся, но плохо думают. Ору-Коку не такой дурак, чтобы держать секретный документ там, где до него могут добраться ваши люди. Этот «Инсу» наверняка хранится на корабле.
– Очевидно, так и есть. – Советник нахмурился. – Перед очередной встречей с нашими представителями посланник обязательно наведывается в Ёкохаму и проводит некоторое время на пароходе, который доставил из страны Игирису подарки для его величества, а вместе с ними «Инсу-тора-кусён». У вас получилось проникнуть на варварский корабль тогда, получится и теперь.
– Нет, – сразу сказал Тацумаса. – Не получится. Пробраться на корабль я, конечно, смогу, но это ничего не даст. Я не знаю языка страны Игирису. Как я пойму, что именно нужно взять? Вы ведь и сами не представляете, как выглядит «Инсу». Да и нельзя его красть – посланник догадается, чьих это рук дело, и прервет переговоры. Выйдет еще хуже, чем при невыгодном соглашении.
– Вы правы, вы полностью правы, – поник головой Касидзава. – Неужели нельзя ничего сделать? Если уж глава Китодо бессилен…
– Посидите молча, – тихо попросил Тацумаса, и советник затих.
Боясь пошевелиться, он смотрел, как мастер погружается в медитацию. Глаза благородного вора полузакрылись, руки легли на колени ладонями кверху, на устах появилась расслабленная улыбка. Дыхание стало глубоким и ровным, изо рта свесилась нитка слюны. Длилось это не больше минуты. Потом Тацумаса моргнул, вытер губы, тряхнул головой. И сказал неожиданное:
– Купеческий дом «Митомо» закончил строительство новой конторы около моста Рёгоку.
– Ну и что? – опешил советник.
– Это необычный дом. В нем вместо раздвижных перегородок повсюду сплошные стены. А одна из комнат, предназначенная для хранения денег и ценностей, вообще каменная, с железной дверью.
– Да, я слышал об этом. Дом «Митомо» подал его величеству сёгуну прошение о создании первого в Японии банку – это такая компания, торгующая не товарами, а деньгами. Никто не знает, разрешать столь диковинное предприятие или нет. Вопрос обсуждается на совете старейшин.
– Так предложите посланнику пожить в этом чудесном доме, пока он пустует. Полагаю, «Митомо» на это согласится, если вы их попросите. Игирисудзины тоже будут рады обитать среди твердых стен, они ведь не понимают красоту хрупкости.
– А… зачем это?
– Когда посланник обзаведется надежным хранилищем с каменными стенами и железной дверью, ему не придется каждый раз совершать утомительные поездки в Ёкохаму. Тайная тетрадь будет в полной безопасности.
– Но нам не нужно, чтобы она была в полной безопасности! Я слышал, что железная дверь там непростая, а с секретным кодом. Даже вы ее не откроете!
Ничего объяснять Тацумаса не собирался.
– Сделайте, как я сказал. Поселите черную кошку в темной комнате. И сообщите мне, перестанет ли после этого Ору-Коку ездить в Ёкохаму.
Мастер мечтательно улыбнулся. Он предвкушал зарождение новой легенды. Когда-нибудь в будущем – ведь рано или поздно все тайное становится явным – напишут пьесу кабуки «Березовый Тацумаса и секретная книга варваров».
Березовый Тацумаса и секретная книга варваров
Всё так и вышло.
Компания «Митомо» с радостью оказала правительству услугу, надеясь получить в награду лицензию на открытие своего странного предприятия. Игирисудзины, осмотрев предложенную резиденцию, пришли в восторг и не только переехали туда, но перевезли с корабля драгоценные подарки для вручения сёгуну в день подписания договора. Самое же главное – посланник перестал таскаться в Ёкохаму. Теперь «Инсу-тора-кусён» хранился в каменной комнате. Попасть в нее можно было только через спальню Ору-Коку, секретный код от железной двери знал он один.
Получив от господина советника все эти сведения, Тацумаса произвел необходимую подготовку и назначил операцию на ближайший день [25], благоприятный для важных предприятий. Вернее, на ближайшую благоприятную ночь.
Мастера провожали торжественно. Супруга пропела: «Иттэ ирасся-а-ай!», «Счастливого вам пути-и-и!». На улице чинной шеренгой выстроились ученики в парадных кимоно черного цвета с гербом дракона, который, как известно олицетворяет мудрость и благородство. Они разом склонились, Тацумаса кивнул в ответ, сел в паланкин, украшенный тем же иероглифом, и отправился в недальний путь. Рядом гордо шагал Данкити. Впереди и сзади шествовали четверо старших учеников, у каждого в высоко поднятой руке бумажный фонарь. Редкие прохожие, если это были настоящие эдосцы, сразу понимали: благородный вор следует на дело – и тоже кланялись.
Очень скоро, минут через десять, Тацумаса был уже в речной гостинице, где берут лодки для ночного катания с гейшами. Хозяйка подала высокому гостю его любимый чай «нефритовая роса», чтобы скрасить ожидание, но долго ждать не пришлось. Двое специально приглашенных ассистентов, доктор Саяма и господин Отоя-но Санситиро прибыли пунктуально и почти одновременно. Тацумаса представил их друг другу, угостил теплым сакэ. Сам он перед операцией вина не пил, но этим двоим сакэ пойдет на пользу – они выглядели чересчур взволнованными. Санситиро беспокоился, понравится ли его работа мастеру Китодо, а врачу не терпелось собственными глазами увидеть заморские чудеса. Он проштудировал весь список дипломатических подарков и прямо трясся от возбуждения, так ему хотелось все их потрогать.
Разговор, однако, был учтивый – о том, что «сливовые» дожди в этом году припозднились.
В конце концов Тацумаса спросил, заказать ли еще кувшин сакэ или, может быть, уже пора? Двое остальных сразу вскочили.
Санситиро был старшим мастером одной из лучших столичных строительных компаний «Отоя». С Тацумасой они были старинными знакомцами. Такие друзья у благородного вора имелись во всех больших строительных и доморемонтных предприятиях. Этим и объяснялась тайна, над которой столько лет тщетно ломал голову бедный господин Касидзава: как удается Тацумасе проникать в любые дома, склады и хранилища без взлома?
А очень просто. Всякое строение, откуда можно украсть нечто ценное – будь то дворец [26], магазин или купеческий особняк – по меньшей мере раз в пятнадцать лет капитально ремонтируется или перестраивается. Ведь почти все дома в городе из дерева и бумаги. Материал это недолговечный, а еще бывают землетрясения и сильные тайфуны. Не говоря уж о том, что в Эдо все время ведется новое строительство. Состоятельные клиенты, разумеется, обращаются в самые солидные компании, а там, на ключевой должности, обязательно состоит какой-нибудь приятель или должник великого Тацумасы. Полезный человек позаботится о том, чтобы подготовить мастеру Китодо какую-нибудь лазейку для будущей оказии. В особой книжице у благородного вора были записаны сотни домов, куда он легко мог попасть без приглашения.
Тацумаса предложил разместить варвара в новом доме компании «Митомо», потому что строительством ведал его друг Санситиро. Он, конечно же, устроил тайный ход в неприступную комнату с ее хитрой дверью. Не то чтоб Тацумаса планировал в скором времени грабить почтенное предприятие, но вдруг в будущем «Митомо» поведет себя плохо и тем самым выйдет из-под ограничения правила номер два, запрещающего красть у хороших людей?
От речной гостиницы до моста Рёгоку было рукой подать. Все трое спустились в сухой ров, окружавший временную резиденцию игирисудзинов. Из вежливости Санситиро пожелал лично сопроводить заказчика до места, хотя практической нужды в том не было. Из своей превосходной книжицы Тацумаса и так знал, где находится лаз.
Он и Данкити скинули верхнюю одежду, передали ее старшим ученикам, оставшись в облегающих рабочих костюмах. Снял свое кимоно и доктор. Он был в широких [27] и иностранной рубахе со смешным воротничком и рукавами дудочкой. Она называлась «сяцу».
Санситиро нажал ногой замаскированный рычаг – сдвинулся фальшивый облицовочный камень. Открылась черная дыра.
– Прошу извинить, что труба такая тесная, но это всё, что я мог сделать, – скромно молвил строитель, гордый своей работой.
– Ничего, я и сам невелик, – ответил Тацумаса. – Эй, Данкити!
Ученик на четвереньках полез первым, светя перед собой лампой. На спине у него был мешок со всем необходимым. Вторым, налегке, проник в трубу учитель. Сзади кряхтел неуклюжий толстый доктор. Ему было трудно, но он не жаловался. Не застрял бы, немного забеспокоился Тацумаса и пожалел, что не запустил сенсея вторым – тогда можно было бы подпихивать его в ягодицы.
Но ничего, обошлось.
Через некоторое время ход уперся в стенку. Теперь нужно было подниматься вверх. Славный Санситиро предусмотрел для этого удобную лесенку из железных скоб.
Над головой у Тацумасы размеренно двигались тапочки с бесшумными кожаными подошвами – это поднимался Данкити. Вот что-то заскрежетало, потянуло сквозняком. Должно быть, ученик открыл потайной люк в полу хранилища.
Тацумаса остановился, чтобы подождать доктора, которому подъем давался с трудом. Торопиться было незачем, пускай Данкити всё там наверху приготовит.
Когда мастер вылез из дыры, таща за подмышки потного сенсея Саяму, в помещении было уже светло. Расторопный ученик достал из мешка дополнительные бумажные фонари, раскрыл их, зажег и расставил по четырем углам.
– Та-ак, что тут у нас? – пробормотал Тацумаса, оглядываясь.
Вон железная дверь, ведущая в спальню посланника. Повсюду ящики, сундуки, коробки, какие-то непонятные предметы на полках. Ага! Столик на несуразно длинных ножках, на нем стеклянная лампа, рядом дурацкое варварское сиденье, с которого очень легко свалиться (называется «стул»). И на столике две толстые книжки в кожаных переплетах.
– Прошу вас, взгляните, что это. Данкити, посвети сенсею.
Саяма поправил очки, бережно взял первый том.
– Я предупреждал, что знаю только голландский, а с языком игирисудзинов не знаком, – предупредил он.
– Это дикое наречие во всем губернаторском управлении знает только один человек. Не мог же я взять с собой на дело чиновника, чтобы власти узнали все мои секреты? Очень прошу вас, сенсей. Постарайтесь. Вы ведь умеете разбирать их катакану.
– Да, азбука у них у всех одинаковая. – Пошевелив толстыми губами, Саяма прочел: – «Диари». Понятия не имею, что это значит. – Полистал. – Судя по тому, что всюду стоят даты, это дневник. Ах, вот почитать бы!
Тацумаса отобрал первую книжку, дал вторую.
– А это что?
– …Полагаю то, что вам нужно. На первой странице (у них читают слева направо) написано «Instruction». Несомненно это то же, что по-голландски называется Instructive, сиречь «подробное наставление». – Пошуршал страницами. – Сколько я могу судить, здесь длинный перечень товаров, цифры, множество всяких пунктов и подпунктов.
– Отлично. Данкити, давай!
Мастер сел на пол и, обмахиваясь веером, стал смотреть, как ученик исполняет тонкую работу: достает из мешка свиток бумаги, пропитанной особым раствором, и прикладывает ее к секретной книжке, страничка за страничкой. Такая бумага, называемая «обмокательной», чуть-чуть растворяет засохшие чернила, тушь или краску, делая точную копию текста или изображения. Свиток постепенно покрывался варварскими каракулями.
Убедившись, что Данкити всё делает правильно, мастер встал и присоединился к доктору, который жадно разглядывал иностранные дары.
– Смотрите, смотрите! – азартно говорил он. – Вот она, новейшая фотографическая камера, которую посланник собирается преподнести [28]! Как она прекрасна! Вы ведь слышали про сясиндзюцу, механическое воспроизведение действительности?
Тацумаса пожал плечами. Он не очень жаловал новое. Зачем оно, если и в старом столько пространства для усовершенствований?
– Ах, это ружье с винтовой нарезкой внутри ствола. Оно может поражать цель на тысячу шагов! А это что? О-о-о!
Вытащил из коробки какую-то трубу.
– Прошу вас, сенсей, ничего не трогайте, – попросил Тацумаса. – Мы не должны оставить следов нашего присутствия. Это тоже какое-нибудь оружие?
– Нет, – благоговейно прошептал Саяма. – Это «тэрэскопу». Устройство, чтобы смотреть в ночное небо. В трубу его видно, как на ладони!
– А зачем? Разве звезды и луна красивее вблизи, чем издали!
– Да ну вас! – отмахнулся невежливый сенсей. Он заглядывал в следующую коробку. Простонал: – А-а-а! Это же «микуроскопу»! Я всегда о нем мечтал! Можно я подержу его в руках?
– Нельзя.
Тацумаса с недоумением разглядывал безобразный сервиз: чашки и маленькие плоские тарелочки, совершенно одинаковые (какое отсутствие фантазии!). Они были из белого металла – должно быть серебра, только тускловатого. Рядом стопкой лежали бруски того же материала.
– А это что за дрянь?
Доктор благоговейно погладил брусок.
– Вы ничего не понимаете. Это совершенно новый металл «арю-мини-уму». Рукотворный! Он очень легок, прочен и пластичен! Изготавливать его очень дорого и сложно, рецепт содержится в тайне! Арю-мини-уму бесценен! Он намного дороже золота и даже платины!
– А, да. Я читал в протоколе, который прислал Касидзава, что торговый представитель варваров будет рассказывать про это его величеству. Как будто мало уже существующих металлов…
Сенсей не слушал. Он схватил большую книгу с множеством картинок.
– О-о, альбом с изображениями всемирной выставки, которая состоялась в их столице Рондон! Взгляните, это знаменитый [29]! Он построен из стекла и железа! Какое чудо!
– Положите на место. У вас потные руки. Останется след. Данкити, долго еще?
– Скоро закончу, учитель.
– Сюда, сюда! – махал рукой Саяма, присев на корточки над какой-то диковинной композицией из разноцветных коробочек и решетчатых полосок, разложенных по полу. – Смотрите, макет «тэцудо», железной дороги! Вот это машина, которую двигает пар. Она тащит за собой вереницу повозок! Я читал, что торговый представитель Дзэ-Фэру-Сон будет предлагать его величеству построить у нас в Японии такую дорогу. Представляете?
Всё это очень умно и хитро, подумал Тацумаса. С одной стороны, варвары преподнесут подарки правителю другой страны – обычная в дипломатии вещь. Но дарят они не бессмысленные драгоценности, а образцы своих товаров. И подобраны эти вещи с явным расчетом на то, что его величество сёгун Иэмоти, пятнадцатилетний юноша, живо заинтересуется новинками. Касидзава рассказывал, что купец Дзэ-Фэру-Сон имеет от правительства лицензию на торговлю с Японией. Работая на свою державу, он работает и на собственную прибыль. Чему у варваров можно было бы поучиться – предприимчивости. К сожалению, это качество плохо сочетается с нравственностью и твердыми жизненными правилами. Суетливая изобретательность подрывает традиции.
От рассуждений мастера отвлек Данкити. Он закончил копировать документ и теперь тоже пялился на чужеземные сокровища.
– Учитель, ведь варвары – это зло? – спросил ученик. – Значит, они плохие люди. Тогда почему бы нам их не обокрасть? Тут не будет противоречия ни одному из правил Китодо.
– Потому что это подорвет престиж Японии, – нахмурившись, ответил мастер. – Странно, что тебе нужно объяснять подобные вещи.
Но молодого невежду поддержал почтенный доктор.
– Давайте возьмем хотя бы микроскоп! – взмолился он. – Он так необходим для моих изысканий! Я буду вашим погробным должником!
– Я попрошу господина Касидзаву, чтобы потом, когда его величество наиграется в эту игрушку, ее отдали вам в награду за вашу бесценную помощь, – пообещал Тацумаса. – Мы уйдем, ничего здесь не тронув.
– Как уйдем?! – возмутился Саяма. – А кто обещал мне экскурсию?
– Экскурсия будет. Данкити, бери свиток и ступай к остальным. Ждите нас. Мы с сенсеем немного прогуляемся.
Железная дверь была заперта на хитрый замок и снаружи догадаться о сочетании цифр было невозможно, но строитель Санситиро сказал, что изнутри механизм открывается особым рычажком – на случай, если человек по неосторожности сам себя запер.
Тяжелая створка распахнулась с довольно громким лязгом, но можно было не опасаться, что в доме кто-то проснется. Одна из служанок, работавшая на господина Касидзаву, вечером повсюду заменила обычные свечи на сонные. Надышавшись дурманного воздуха, варвары дрыхли так, что их не разбудил бы и [30].
По правде говоря, мастеру и самому было любопытно посмотреть на чужестранцев и их жилище.
Посланник Ору-Коку похрапывал, лежа на деревянном помосте со столбами. На голове у него был колпак, в стакане с водой стояли зубы – ужасное зрелище. Тацумаса и не предполагал, что у варваров они съемные.
Доктор с любопытством пощупал спящему пульс, приоткрыл веко, потер мочку уха, пощупал под одеялом.
– Немолод, но крепок. Проживет еще лет тридцать или сорок. Что вы пялитесь на стакан? Это протез. Почти у всех европейцев к пятидесяти годам вываливаются зубы, потому что они не едят водорослей, одно только мясо.
Как можно спать на такой мягкой, будто болотная трясина, подушке, недоумевал Тацумаса, потрогав постель. Можно себе представить, какие вязкие сны от этого снятся. Сам он, ложась, клал голову [31], и сны ему снились очень красивые.
На полу стояла обувь – два грубых кожаных башмака. Должно быть, ходить в них пытка.
– Жаль, что в доме нет бледнокожих женщин, – посетовал врач. – Мне бы очень хотелось рассмотреть и потрогать их тело.
– Давайте сходим посмотрим на торгового представителя, – с некоторым смущением произнес Тацумаса. – Мне говорили, что этот Дзэ-Фэру-Сон зарос настоящими красными волосами. Я много о них слышал, но никогда не видел. Его дверь вторая по коридору.
Саяма снисходительно объяснил:
– Ничего особенного, просто такая пигментация волосяного покрова. Признак вырождения их расы.
Они разговаривали вполголоса, но не из опаски, а из вежливости. Нехорошо шуметь, когда спят люди, хоть бы даже и варвары.
В комнате торгового представителя было интереснее, чем в спальне посланника. Здесь всюду лежали образцы разных товаров, и доктор их с любопытством разглядывал, цокал языком. А Тацумаса поднес фонарь к самому лицу игирисудзина. Осторожно потрогал поросль на лице. Все-таки она была не красная, а рыжая – как у лисицы. Еще варвар походил на орангутанга, которого благородный вор видел когда-то в сёгунском зверинце.
Маленький клочок диковинных волос Тацумаса срезал и завернул в бумажку – чтобы потом показать жене. Это был единственный трофей, вынесенный мастером Китодо из обиталища варваров. Доктор тоже захотел взять себе локон – для изучения. Пускай. Нужна же и ему какая-то награда за помощь.
На прощанье он нацарапал на полу каменной комнаты иероглиф «дракон». Варвары его не заметят или примут за бессмысленную закорючку, но традиция есть традиция.
– Чем я могу вас отблагодарить? – спросил Касидзава.
Он вернулся из дворца очень довольным. Должно быть, его похвалило, а то и наградило высокое начальство. Повышения Касидзава никогда не получит, потому что родом он всего лишь [32]. Так всегда и останется тенью никчемного господина губернатора, но это в порядке вещей. Мудрость японского мироустройства в многослойности власти. Выше всех бог-император, но настоящий правитель страны – сёгун, а на самом деле даже не он, а премьер-министр. Если же вникнуть, то окажется, что решения принимает помощник премьер-министра, который, в свою очередь, прислушивается к мнению своего вассала-секретаря с годовым жалованьем в каких-нибудь пятьдесят коку. Поэтому японское государство незыблемо и несокрушимо. Можно повредить его оболочку, но не сердцевину.
Учтивость предписывала поотнекиваться, сказать, что возможность оказать услугу родине – само по себе награда, но Касидзава, пожалуй, мог принять это всерьез. Он считал, что оказывает благородному вору высокую честь, приобщив его к государственным заботам. Вроде умный человек, а все равно самурай.
– Освободите Ямабито, – сказал Тацумаса без обиняков.
– Кого?
– Человека-Гору. Ярмарочного силача, который устроил дебош в публичном доме.
– Того, что покалечил троих стражников, и один из них потом умер? Помню, я разбирал это дело. Освободить убийцу нельзя. Он поднял руку на представителей власти и за это [33].
– Освободите Ямабито, – повторил мастер, – и мы в расчете. Но если вы не хотите исполнить долг благодарности, ничего страшного. Я просто уйду.
Касидзава насупился. Пренебречь долгом благодарности он не мог, это было бы бесчестно.
– Больше всего на свете я не люблю непредсказуемости, а вы человек непредсказуемый, – проворчал господин советник. – На что вам этот увалень? Вы всегда ненавидели убийц и презирали болванов, а этот Ямабито и то, и другое. Бездарное, тупое животное. Кроме бычьей силы ничего нет. Когда он выступал на соревнованиях по сумо, его легко выкидывали с площадки борцы вдвое меньше весом. Только и умеет, что на потеху зевакам поднимать вес в полсотни [34]. – Касидзава вздохнул. – Ладно, вы не желаете мне помочь в поимке Кровавой Макаки – это я могу понять, у вас свой кодекс. Но спасать от заслуженной кары арестованного убийцу?
– Во-первых, он не нарочно, просто не соразмерил силу. А во-вторых… – Тацумаса усмехнулся. – Ямабито мне нужен как раз для того, чтобы избавить вас от шайки господина Тадаки.
Касидзава подался вперед.
– В самом деле?!
– Да. Шайки «Обезьянья рука» больше не будет. И господину Эно не придется жертвовать своей жизнью.
От своего человечка в губернаторском управлении Тацумаса знал, что молодой [35] по фамилии Эно, любимый ученик Касидзавы, поклялся зарубить Кровавую Макаку, а потом добровольно разрезать себе живот, ибо полицейский не должен преступать закон. Пылкий самурай заявил это спьяну, но похвальбу многие слышали, и теперь молодому человеку некуда деваться.
– К тому же, если Эно-сан зарубит господина Тадаки, проблемы это не решит, – вкрадчиво продолжил Тацумаса. – Место главаря сразу займет кто-нибудь из его подручных. Нет уж, позвольте я одолею злодея по своему разумению и по собственным правилам. Да так, что всей шайке наступит конец.
– Но чем вам поможет Человек-Гора?
Ответа на нескромный вопрос Касидзава не дождался. И уступил.
– Ладно. Раз это обещает сам великий Тацумаса… Я дам вам записку в тюрьму. Забирайте вашего кашалота, пусть живет. Начальник палачей все равно сомневается, выдержит ли деревянный крест такую тушу. Только учтите: по делу секретной книги варваров мы в расчете.
Но тут чело государственного человека омрачила новая мысль:
– Хотя, если вы избавите нас от Кровавой Макаки, я опять окажусь у вас в долгу…
Китодо и Акунин-сёки
Говоря о помощи в поимке Кровавой Макаки, советник Касидзава не просил выследить разбойничьего атамана. Сахэй Тадаки ни от кого не прятался. Весь Эдо знал, где его найти: или дома, или в веселых заведениях, где страшный человек слыл одним из самых щедрых клиентов.
«Кровавой Макакой» бандита называли только полицейские и чиновники. Горожане звали его «Сарухэй» и пугали им маленьких детей: не будешь слушаться – Сарухэй заберет. Обе клички – и очень грубая, и боязливая – возникли из-за того, что Тадаки был неразлучен с дрессированной макакой-сару. Шагает он по улице, окруженный телохранителями, а рядом с грозным акунином ковыляет или даже сидит у него на плече разряженная мартышка, строит потешные гримасы. Имя ее было [36], она меняла наряды чаще, чем модная гейша. На месте преступления шайка непременно оставляла свой знак: кровавый отпечаток обезьяньей лапки – для пущей славы и пущего страха. Если кто-то что-то видел – пусть проглотит язык, зная, чьих это рук дело. Всем было известно, что за болтливость банда «Сару-но-тэ», «Обезьянья рука», убивает всю семью, до грудных младенцев. Если великого Тацумасу защищала от полиции любовь горожан, то великого Сарухэя чувство еще более сильное: страх.
У идеально упорядоченного общества есть свои уязвимые места. Верней сказать, всякая сила одновременно является и слабостью. Во всем строго следовать закону прекрасно, но это значит, что без неопровержимых улик и свидетелей нельзя арестовать преступника, даже когда его виновность известна каждому. Вот почему пылкий ёрики Эно-сан, исчерпав иные средства, был готов пожертвовать жизнью, лишь бы покарать чудовищного злодея за его зверства.
Советник Касидзава нуждался в твердых доказательствах, которые позволили бы силам закона схватить Кровавую Макаку, – вот о какой помощи он просил.
Сахэй-Сарухэй очень докучал и Тацумасе, но как расквитаться с этим опасным врагом, не поступившись честью? Над этой задачкой прославленный мастер ломал голову не первый год.
Поразительно, но Тадаки был родом из хорошей самурайской семьи. В юности он совершил какой-то недостойный поступок – вероятно, сущую шалость по сравнению с будущими злодеяниями, ибо [37]. Однако приговоренный не пожелал разрезать себе живот и за это был с позором изгнан из клана. Нет на свете людей хуже, чем те, кто, будучи обучен морали, добровольно ее отвергают. Глубина их падения не ведает дна.
Начав с мелкого разбоя, [38] со временем собрал вокруг себя целую шайку таких же негодяев, и когда в мирную страну Ямато нагрянули черные корабли, для черных душ наступило золотое время. Спокойные воды замутились, на поверхность выкинуло много всякого мусора и дряни.
Наверху образовались [39]. Одна, сёгунская, прагматическая, считала, что у заморских варваров следует перенять их технические навыки. Другая, императорская, возвышенная, призывала сохранить чистоту священной Японии от чужеземной пакости. Поскольку Тадаки не мог примкнуть к правительственным силам, почитавшим его преступником, он заделался истовым патриотом. Его банда стала собирать с горожан взносы в некий фонд «Божественный Ветер», который-де поможет сдуть варваров обратно за океан. Деньги потекли рекой, и дела шайки быстро пошли в гору.
Сейчас, когда иностранцы устроили недалеко от столицы, в Ёкохаме, собственное поселение, многие торговцы стали отлично зарабатывать на поставках туда продовольствия и прочих товаров. Варвары ведь не знают, что почем, с них можно драть втридорога. Но промысел был рискованный. Патриотические ронины нападали на чужеземцев с мечами. Ёкохамские варвары без хорошей охраны не высовывали носа из своего [40], защищенного рвами и заставами. Подвергали себя опасности и торговцы, ехавшие туда с товарами. Однако все знали: если договориться с людьми Сарухэя, проблем не будет.
Ныне, в период своего богатства и могущества, банда «Обезьянья рука» превратилась в маленькое государство, устроенное по тому же принципу, что государство большое. Сарухэй требовал, чтобы подручные именовали его «сёгуном». При главаре существовал «синъэйтай», личная гвардия, состоявшая из близких помощников-«»[41] и телохранителей-«гокэнинов». Их было немного, человек тридцать. Основная банда, несколько сотен головорезов, была разделена на полунезависимые «кланы», во главе каждого стоял свой «даймё». Некоторые из них ведали определенным видом деятельности – игорными домами, или борделями, или фальшивой монетой; другие орудовали на определенной территории. Половину своих прибылей кланы отдавали «сёгуну» – и попробовали бы только не отдать: отборные бойцы «синъэйтая» живо вразумили бы мятежников. Кроме того поддержка «сёгуна» была необходима каждому «даймё», когда тот затевал крупное дело, с которым не справился бы собственными силами.
Тацумаса, всегда справедливый к людям, даже если кого-то очень не любил, много раз говорил ученикам, что господин Тадаки – гений злодейства, настоящий масштабный акунин.
Врагами они стали не сразу – ведь делить им было нечего. Но однажды, несколько лет назад, Сарухэй явился к мастеру Китодо с почтительным визитом.
– Сиракаба-доно, – сказал гость после первого обмена вежливостями, – давайте соединим наши возможности и будем работать вместе. Мы станем настоящими хозяевами сначала этого города, а потом, быть может, и всей страны. При свете дня в ней будут править обычные сёгун с императором, а с приходом темноты – мы с вами. «Ночной император» Тацумаса, «ночной сёгун» Сахэй – каково?
И засмеялся. Чего-чего, а размаха Кровавой Макаке хватало.
К этому времени Тацумаса, конечно, уже испытывал к шайке «Обезьянья рука» глубочайшее отвращение, однако из учтивости выслушал предложение до конца.
– Вы знаете, как проникнуть в разные интересные места, ваши ловкие ученики подобны воде, просачивающейся в любые щели, – сыпал комплиментами Тадаки. – Если ваш человек откроет изнутри дверь моим людям, мы вынесем из купеческого дома или княжеского дворца всё, что там есть. Или, например, разнюхали вы нечто аппетитное – про перевозку ценного груза, про путь следования богатого каравана или еще про что-то – и сообщаете мне. Прибыль будем делить по-честному, пополам.
Он говорил долго. Тацумаса все время кивал, поддакивал «хай, хай» – в знак того, что ему всё понятно, но Сарухэй решил, что слушатель соглашается.
– Так по рукам? – сказал он в конце. – Выпьем церемониальную чарку для скрепления нашего великого союза. Предлагаю назвать его «Тацухэй» в ознаменование нашего единства и неразрывности. Видите, я готов поставить ваш иероглиф на первое место, вы ведь старше меня.
– При одном условии, – молвил Тацумаса, поблагодарив за оказанную честь. – Альянс будет существовать по принятым в нашей школе Трем Правилам и Одному Канону.
И объяснил, каковы эти принципы – на случай, если собеседник их не знал.
Сарухэй сначала решил, что это шутка.
– Грабить только плохих людей и никого не убивать? – засмеялся он. – Не знал, что вы такой весельчак!
Но хозяин не улыбнулся, и бандит понял, что это всерьез.
– Не беспокойтесь, – стал убеждать он. – Всю грязную работу будут исполнять мои люди. Свой канон о непролитии крови вы не нарушите. Что же касается плохих и хороших людей, то, как известно, любые оценки субъективны.
Чувствовалось, что Тадаки получил хорошее образование. Далее он произнес целую речь, украшая ее цитатами из китайской классики и употребляя всякие мудреные слова.
Он говорил, что уважаемый сенсей неверно трактует истинный смысл буддизма. Истинно Сущий не придает смерти никакого значения, иначе люди не дохли бы, как мухи, безо всякого смысла. Буддизм вообще не про других людей, он всегда адресован тебе и только тебе, философствовал душегуб.
– Лично я придерживаюсь учения [42], «Спасения злодеев», – говорил Тадаки. – Будду по-настоящему занимают лишь акунины вроде меня, потому что мы сосредотачиваем в себе всё зло мира, а цель Будды – спасти Зло, обратив его в Добро. Обычные люди, эти безвольные лягушки, кровь которых всегда той же температуры, что болото, Будду не интересуют. Что за сложность их спасать? Благопришедшему это скучно. Иное дело я, Сахэй Тадаки. Будда шепчет в мое ухо: «Верь в Меня, молись Мне, и тем уже спасешься». И я слышу Его голос, я верю! А прочее – чепуха. Верно я говорю, Хання?
Он щелкнул по лбу свою обезьянку. В тот раз она была наряжена чужеземным матросом: в узкие полотняные штаны, полосатую сяцу, с круглой белой шапочкой на голове, шерсть на мордочке расчесана в стороны, как растительность у варваров. Мартышка молитвенно сложила ладошки и поклонилась.
В спор о тонкостях религии Тацумаса вдаваться не стал. Буддизм хорош тем, что в нем есть множество самых удивительных учений и школ. И этим же плох. Любой урод всегда найдет для себя что-нибудь подходящее.
– Есть еще одно обстоятельство, вызывающее у меня сомнения касательно нашего сотрудничества, – мягко сказал мастер. – Ваши люди. Про них рассказывают ужасные вещи. Такое ощущение, что у них совсем нет морали.
– Ни капельки, – подтвердил Сарухэй. – Так называемых порядочных людей в свою организацию я не беру. Предпочитаю иметь дело с законченными мерзавцами. Во-первых, они дееспособнее. Ставишь перед ними задачу – выполняют, не боясь замараться, и ни перед чем не останавливаются. Во-вторых, с ними проще. Всегда знаешь, чего от них ждать. Держи такого покрепче за нефритовые шарики, хорошо ему плати – и он твой со всеми потрохами. А человек порядочный ненадежен. В какой-то момент может оказаться, что некий дурацкий принцип для него важнее воли господина. И он подведет. Ну их к бесам, порядочных. Увидите, почтенный господин Сиракаба, две наши команды сойдутся, как белый Инь и черный Ян. Дополняя друг друга, мы будем несокрушимы. Соглашайтесь! Проси сенсея, Хання.
Макака отмочила штуку: опустилась на коленки и трижды ткнулась лбом в татами. Ее хозяин расхохотался.
Тацумаса тяжело вздохнул. Он очень не любил говорить людям в лицо неприятные вещи, но иногда просто не остается выбора.
– Сделайте милость, Тадаки-сан. – Голос мастера был негромок, но тверд. – Встаньте и уйдите, не допивая сакэ. Прошу прощения за невежливость, но я больше не могу смотреть на ваше некрасивое лицо. Боюсь, вырвет. У меня слабый желудок.
Сарухэй, конечно, обиделся – кажется, больше всего на «некрасивое лицо». И, конечно, захотел убить Тацумасу. Разбойник думал, это будет очень легко, потому что он пришел на встречу с четырьмя вооруженными до зубов «гвардейцами», а при Тацумасе находился только тихий старичок Иида со своим бамбуковым посохом, на который он опирался при ходьбе, будто его непрочно держали ноги. Но Иида-сенсей руководил [43] и не имел себе равных в Искусстве Копья. Со своим посохом он управлялся лучше, чем вышивальщица с иголкой.
Господин Иида крепко побил и телохранителей «ночного сёгуна», и его самого, причем сломал господину Тадаки обе руки, так что великий и ужасный злодей потом несколько недель не мог справлять нужду без посторонней помощи. Этого унижения адепт Акунин-сёки мастеру Китодо не простил, и с тех пор между ними тянулась нескончаемая война. Жертвы в ней были несопоставимы. Люди Сарухэя в худшем случае получали тумаки или теряли лицо, попадая в позорные ситуации. Ученики Тацумасы, если они оказывались недостаточно ловки, платили за это жизнью. За минувшие годы погибли уже семеро, причем двое очень жестокой смертью. На самого Тацумасу было совершено несколько покушений – впрочем, весьма неуклюжих.
Эта-то опасность была нестрашная, даже полезная. Она помогала ученикам совершенствовать свое искусство и держала их в постоянной готовности к любым неожиданностям. Но в последнее время чертов Сарухэй изобрел новую тактику. Он перестал охотился за людьми Тацумасы, застать которых врасплох было трудно. Мерзавец начал обрывать нити, связывавшие школу Китодо с городом, обрезать питавшие ее корни. Уже несколько десятков давних надежных партнеров, всегда помогавших Тацумасе – хозяева гостиниц и ресторанов, торговцы, лодочники, мамы-сан публичных домов – с глубокими извинениями известили мастера, что больше не смогут поддерживать с ним отношений, ибо получили письмо от «Обезьяньей руки»: всякое сношение с Китодо будет караться жестокой смертью. После того, как вся семья одного непонятливого садовника, всего лишь поставлявшего в Дом-под-березой свежие цветы, была найдена зарезанной, никто уже не смел игнорировать такое предупреждение. Защитить всех было не под силу даже великому Тацумасе.
Кольцо блокады сужалось, начиная создавать серьезные неудобства. С «Обезьяньей рукой» пора было кончать.
Ах, как просто было бы это сделать, если б не Канон о неубийстве! Чик-чик, и нет ни Сарухэя, ни его «гвардии». Но это значило бы самому превратиться в Кровавую Макаку.
Тацумаса думал-думал и наконец придумал. Не зря его называли великим.
«Золотой Коку»
На одном страхе никакая власть долго держаться не может, даже самая жестокая. Для прочности ей требуется нечто большее – нечто бесплотное, поражающее умы. Что-то завораживающее. И Тадаки эту древнюю истину отлично знал, он ведь был гений злодейства.
Фокус, придуманный Сарухэем, был по-своему красив – у Зла тоже есть своя красота, притом могущественная.
Даже вдали от Эдо, где-нибудь в Осаке, да хоть бы и в Нагасаки, куда «Обезьянья рука» не дотягивалась и где никого запугать не могла, люди слышали о «Золотом Коку». Такого рода легенды распространяются широко и далёко, ибо их интересно передавать и слушать.
С блестящими глазами, с придыханием люди по всей Японии рассказывали, что в Эдо есть великий и неуловимый разбойник Сарухэй, у которого хранится огромный слиток чистого золота весом – вы не поверите – в целый [44]! Это трудно вообразимое сокровище сплавлено из несметного количества награбленной звонкой монеты.
Да, Сарухэй умел владеть умами. Коку золота, годовой доход целого княжества, – это ведь не только огромный денежный капитал, это еще и миф, волшебный талисман, знаменующий несокрушимость преступной империи. Тадаки желал бы, чтобы его банду называли «Кин-итикоку-гуми», «Шайкой золотого коку», но «Обезьянья рука» звучало лучше и легче произносилось, а над языком не властен даже самый грозный акунин.
Идея, пришедшая в голову Тацумасе, тоже была очень красива. Она соединяла выгоду и изящную простоту.
Если украсть «Золотой Коку», миф о великом Сарухэе лопнет. Рассыплется и всё его могущество. «Ночной сёгун» потеряет не только главное свое богатство – он лишится лица. Прежде всего в глазах собственных подручных. Ведь они подонки, не ведающие ни верности, ни долга. Ослабевшего и опозоренного главаря они раздерут на части, а потом перегрызутся между собой. Пачкать руки уничтожением врага Тацумасе не понадобится. Всё произойдет в полном соответствии с буддийской максимой «Аку ва аку-о куу» – «Одно зло пожирает другое». И потом господин советник Касидзава легко подметет осколки страшилища, развалившегося на куски.
Где хранится «Золотой Коку», было известно всем. Сарухэй не делал из этого тайны. Наоборот, он кичился тем, что не прячет свой гигантский слиток, ибо никого не боится. Время от времени избранным гостям дозволялось полюбоваться сияющим чудом, и те потом рассказывали об увиденном. Это лишь расцвечивало легенду.
Резиденция у «ночного сёгуна» была под стать репутации: торчащая из моря скала, похожая на драконий клык или, по мнению некоторых, на детородный орган. Дом назывался напыщенно: Мисаго-но-су, «Гнездо морского ястреба». Оно было подобно неприступному замку. Из воды наверх по отвесной стене не вскарабкаешься, да и не пристанешь – волны разобьют челнок о камни. Попасть на скалу можно было только по мостику. Берег был совсем рядом, в каких-то пятнадцати [45], но доступ на скалу очень хорошо охранялся. В караульне, как выяснил Тацумаса, всегда находились девять охранников, а по узенькой воздушной тропе мог пройти лишь один человек. Сколько бы врагов ни напало, их можно было убивать поочередно. Хотя кому взбредет в голову соваться в когти ястребу?
Бывавшие в «Гнезде» рассказывали, что «Золотой Коку» лежит в гостиной на самом видном месте – в почетной нише, под свитком с каллиграфическим девизом «Акунин-сёки». Сарухэй не опасался воров. И как бы они вынесли такую тяжесть? Чтоб поднять ее, требовалось четверо крепких мужчин, но по мостику им было не протиснуться. Слиток был изготовлен на скале, никогда ее не покидал, да и не мог покинуть.
Затем-то Тацумасе и понадобился человек-гора Ямабито. Четверо на мостик не пролезут, а ярмарочный силач, поднимающий груз в полсотни каммэ – запросто.
Как и предупреждал господин советник, Ямабито оказался совсем прост рассудком, однако сердцем вовсе не злодей. Выпущенный из темницы, он поклонился спасителю в ноги и объявил густым басом, что его никчемная жизнь отныне целиком и полностью принадлежит сенсею.
Разве можно предавать казни человека, понимающего долг благодарности? Тацумаса был убежден, что казнить вообще никого нельзя, даже отъявленных мерзавцев – в конечном итоге они всегда карают себя сами, а коли нет, то их ждет очень неприятный сюрприз в следующем рождении.
Конечно, мастер проверил, правду ли говорят про силу богатыря: попросил его поднять мешок риса весом как раз в один коку. Ямабито покряхтел, но с заданием справился. «Золотой Коку» нести будет легче, ведь размером он должен быть совсем невелик.
Теперь оставалось дождаться удобного случая.
Случай представился, когда Сарухэй отбыл со всей своей «гвардией» в Нагано, чтобы перехватить в тамошних горах караван шелка. В усадьбе осталась только охрана «Золотого Коку» – восемь «гокэнинов» под началом «хатамото», кличка которого была [46] (в честь бога покровителя воинов). Главный попечитель сокровища никогда не отлучался со скалы. Его единственной миссией было оберегать «Золотой Коку». От спокойной жизни и безделья Бисямон очень растолстел. Поговаривали, что он при всем желании не поместился бы меж перил мостика.
Для операции «Золотой Коку» Тацумасе понадобились всего два помощника: Ямабито и мастер Рокусэн, глава фехтовальной школы Лунного Света. Рокусэн владел мечом не хуже, чем старый Иида копьем. К сожалению, последний уже отошел от дел и доживал свой век на покое, в горной обители.
Торжественных проводов Тацумаса затевать не стал – дело было деликатное, но позаботился о том, чтобы войти в подобающее настроение.
На прогулочной лодке, с комфортом, благородный вор спустился по реке Сумидагава[47] в залив, потом закачался на плавных морских волнах. Была первая ночь припозднившихся «сливовых» дождей – прекрасная пора! По навесу суденышка уютно колотили капли, огромный город светился теплыми огоньками, по воде скользили многоцветные блики.
В прибрежной харчевне у мыса Фуцу мастер встретился со своими помощниками. Попили чаю, выкурили по трубке. Надели соломенные плащи, широкие шляпы, грязевую обувь. Предстояло пройти пешком пол-ри[48].
Впереди шли два сенсея, вели неторопливую беседу. Сзади шлепал по лужам великан.
Разговор у почтенных людей был увлекательный – о неоднозначности такого вроде бы очевидного качества, как глупость.
Повод дал Ямабито. Простаку стало скучно идти молча, и он принялся что-то рассказывать, не сообразив, что из-за дождя впереди идущим ничего не слышно. Рокусэн из вежливости полуобернулся, и Тацумаса обронил: «Незачем. Умный человек иногда может сказать глупость, но дурак никогда в жизни ничего умного не скажет». Мастер Кэндо оказался любителем поспорить. Он заступился за глупцов, заметив, что они по-своему хороши и имеют ряд преимуществ перед умниками.
– Каких это? – спросил Тацумаса, предчувствуя интересную полемику.
– Во-первых, поскольку у глупых людей не развито воображение и они плохо предвидят последствия поступков, среди них гораздо чаще встречаются храбрецы. А во-вторых, глупцы лучше умеют любить, да и самих их любить приятней, чем умных.
Оба тезиса Рокусэн развернул и обосновал, приведя примеры из своей жизни и из литературы. Он был настоящий философ, одно удовольствие послушать.
Через каждые сто шагов помигивали огоньки – это ученики Китодо обозначали дорогу, прикрывая бумажные фонари зонтами. Последним, уже у самого обрыва, ждал Данкити с тележкой для перевозки слитка.
Поклонившись, он попросил взять его с собой на это историческое дело, но Тацумаса с укоризной спросил:
– Разве ты забыл, чему я тебя учил? Всё, что сверх необходимого – лишнее. Жди здесь. Мы недолго.
Ах, как поэтично выглядел вход в Гнездо Морского Ястреба ночью, под звонким летним дождем! Длинный, блестящий мокрым деревом путь в черное Никуда, а внизу белые клочья прибоя, рокотание волн. Пожалуй, ни одна операция Тацумасы не имела столь утонченного антуража. Благородный вор с грустью подумал: такого совершенства, такого идеального сочетания красоты и размаха, мне, пожалуй, уже не превзойти. Да и какой смысл красть, если будешь иметь столько золота? Его за всю жизнь не истратишь. Быть может, уйти из большого Китодо, посвятить остаток дней семье, воспитанию сына?
«А как же я? – спросило чувство долга. – Как же ученики?».
Мастер вздохнул, оставив решение на потом. Наступил момент, когда все посторонние мысли следовало удалить. Рокусэн уже скинул плащ и шагнул на доски. Он двигался танцующим шагом, не касаясь перил. В руке небрежно покачивался бокуто, деревянный тренировочный меч. У великого фехтовальщика было превосходное зрение, он видел в темноте, как кошка. А Тацумаса шел очень осторожно, не отпуская бамбуковый поручень. Было жутковато. Ямабито, чей черед наступит еще нескоро, топал сзади своими слоновьими ножищами. Настил скрипел и подрагивал, но, кажется, был прочен. Выдерживает же он Сарухэя со всей его «гвардией», значит, не подломится и под человеком-горой, когда тот потащит на себе тяжелый груз, успокоил себя Тацумаса.
Вот надвинулась темная громада скалы. Еще через несколько шагов пообвыкшееся с кромешной тьмой зрение углядело квадрат чернотой погуще. Это была караульня, а перед нею площадка, на которую выводил мостик.
Хлопнула дверь, замелькали тени. Часовые бодрствовали. Впрочем человек-гора производил столько шума, что разбудил бы и спящего. Пространство осветилось пламенем факелов, и Тацумаса увидел перед низеньким домиком, который одновременно являлся и воротами, плотную кучку людей – два, четыре, шесть, восемь силуэтов.
– Кто тут? – закричали они, видя пока лишь Рокусэна. – Скажи анго!
Будда знает, какое у них было заветное слово, да и на что оно? Рокусэн своей деревяшкой откроет любые ворота лучше, чем ключом.
Тацумаса подошел поближе, но так, чтобы не мешать художнику исполнить его работу, и приготовился насладиться зрелищем.
– Их двое! Нет, трое! – зашумели охранники. – Это чужие! Руби!
Заскрежетали выхваченные из ножен клинки.
Площадка перед караульней была шире мостика, но все же недостаточно, чтобы на ней плечом к плечу поместились восемь человек. «Гвардейцам» пришлось поделиться: четверо ринулись на Рокусэна, остальные пока держались сзади.
Сенсей уже сошел с досок. Двигаясь быстро, скупо, точно, не поднимая свой бокуто, он легко уклонился от рубящих ударов, проскользнул между охранниками первого ряда и остановился перед вторым. Теперь его окружали все восемь противников – и восемь занесенных стальных мечей.
– Кто ты такой?! Что тебе надо?!
Молчание. Только деревянная палка, на вид совсем не страшная, поднялась [49].
– Ах, ты так?! Тебе конец!!!
С бешеным ревом они кинулись на Рокусэна все разом. К сожалению, подробностей схватки было не видно – только какую-то сумбурную возню. Слышался звон, крики, шуршание ног. А еще доносились сочные, небесприятные щелчки: чпок, чпок, чпок… Тацумаса считал их. Это деревянный бокуто бил по чугунным башкам. Будто черный пион роняет один за другим свои лепестки – так схватка выглядела со стороны. Вот упал последний, восьмой лепесток, и осталась одна тычинка – худенький, невысокий мастер, изящно застывший с поднятым мечом. «Гвардейцы» валялись на земле оглушенные, но не убитые. Шипя и плюясь искрами, чадили упавшие факела. Подсветка снизу придавала сцене особенно эффектный вид.
– Извините, что так долго, – поклонился мастеру Китодо мастер Кэндо. – Прошу вас. Дорога свободна.
Тацумаса неодобрительно вздохнул. Рокусэн мог бы сначала расправиться с четырьмя первыми противниками, а затем с остальными, однако решил покрасоваться своим искусством. Все-таки правильно про него говорят, что фехтовальщик он первоклассный, но не великий. Истинное величие не нуждается в рисовке.
– Нет, – сказал Тацумаса. – Должен быть еще один, девятый.
И крикнул:
– Осторожно!
Он разглядел в дверях караульни массивную фигуру – невысокую, но неправдоподобно широкую. Это несомненно был начальник охраны, разбойничий «хатамото» Бисямон. Судя по неподвижности и спокойствию, человек серьезный.
Рокусэн быстро обернулся, выставив вперед свой бокуто – и опустил его. Последний из врагов держал руку на боку, но меча за поясом не было. Тем не менее Бисямон сошел по ступенькам и сделал несколько медленных шагов вперед.
Рука поднялась. В ней что-то тускло блеснуло.
Это кэндзю! Точь-в-точь такой же, какой был некогда выкраден с варварского корабля – способный выпустить шесть пуль подряд!
Неужто меня погубит то самое оружие, которое я же в Японию и внедрил, мелькнуло в голове у Тацумасы. Сколь злая, но остроумная шутка кармы!
Широкий рукав «хатамото» исторг яркую вспышку, за ней вторую, третью. Грохот выстрелов, подхваченный эхом, слился в единый оглушительный рокот.
Но Тацумаса напрасно тревожился. С почти неразличимой для глаза скоростью Рокусэн метнулся вправо, влево, снова вправо – и каждый скачок этого стремительного зигзага приближал его к врагу. Четвертой вспышки не было. Деревянный меч вышиб оружие из руки стрелка. Продолжая то же движение, выписал в воздухе щегольскую петлю и легонько коснулся бритой макушки толстяка. Бисямон повалился наземь, будто обрушенная землетрясением пагода.
Вот теперь действительно было всё.
Тацумаса сошел с мостика на скалу, быстренько связал бесчувственных «гвардейцев», жестом подозвал Ямабито: оттащи их в сторонку, чтоб не мешали проходу.
– Я очень признателен вам, сенсей, – низко поклонился Тацумаса фехтовальщику.
– Пустяки, я всего лишь возвратил вам давний долг благодарности. И вы сделали мне прекрасный подарок! Я никогда еще не сражался против кэндзю. Это было так необычно!
Они еще немного поспорили, кто кому больше благодарен, и направились в Гнездо. Слуги, конечно, заперлись изнутри на засов, но Ямабито вышиб ворота одним ударом ноги.
Во дворе и в главном доме никого не было. Прислуга попряталась, уверенная, что нападающие сейчас всех перебьют. Пришлось Тацумасе искать гостиную самому.
Он прошелся по комнатам, брезгливо морщась. Какая вульгарная пышность!
Парчовые ширмы – фу. Повсюду где только можно – огромные фарфоровые вазы с крикливым узором. А это что? Портрет Сарухэя с макакой, выложенный из жемчуга различных оттенков. В безвкусной нефритовой раме. И, конечно, непременные семь богов счастья – все тоже из чистого золота. Бедняжка [50], за что они с тобой так? – пожалел Тацумаса покровительницу искусств, жалобно прижимавшую к себе лютню. Статуэтки наверняка стоили целое состояние, но брать с собой этот ужас не хотелось. Да и зачем, когда вот он – «Золотой Коку».
В токономе, меж двух курительниц, тускло сверкал желтый куб. Он показался мастеру на удивление маленьким: [51] в длину, ширину и глубину. Тацумаса немного расстроился, что знаменитый талисман такой некрасивый. У Сарухэя начисто отсутствует эстетическое чувство! Хоть бы придал слитку вид соломенного мешка, в котором один коку риса, а то что это – скучный куб?
Мастер попробовал сдвинуть слиток – и не смог. Ого!
– Ямабито! Твой черед.
Пока силач с пыхтением запихивал тяжесть в мешок крепкого толстого шелка, Тацумаса нарисовал в нише угольком свой иероглиф. Пусть Сарухэй знает, что дракон всегда победит мартышку.
Скрывать, кто выкрал «Золотой Коку», благородный вор не собирался. Скоро весь Эдо, а потом и вся Япония будут восхищаться новым подвигом великого Тацумасы. И потешаться над Кровавой Макакой.
– Не хотите ли взять что-нибудь отсюда на память? – спросил Тацумаса у Рокусэна.
– Нет, благодарю вас. Мои правила этого не позволяют, – ответил мастер Кэндо.
– Тогда уходим. Ямабито, теперь первым пойдешь ты.
Человек-Гора обхватил мешок своими лапищами, поднял, прижал к груди, пукнул от натуги, понес.
Вот и вся операция, с разочарованием подумал Тацумаса. Примитив. Несколько ударов палкой, немного кряхтения, и в завершение – неэлегантный звук.
Оставалось надеяться, что автор будущей пьесы «Березовый Тацумаса и Золотой Коку» как-нибудь расцветит бедноватый сюжет своей фантазией.
Розовая дымка
Дальше всё происходило в точности, как предвидел Тацумаса.
Низменные вассалы «ночного сёгуна», конечно же, не сообщили своему господину о случившемся. Они просто разбежались кто куда, страшась наказания. Никто из охранников и слуг не решился доставить Сарухэю ужасную весть о похищении «Золотого Коку». Это ведь были не самураи и не последователи Китодо, а людишки без морали и чести, думающие только о спасении собственной никчемной шкуры.
Не спас свою жизнь один лишь Бисямон. Очухавшись, он полез на мостик, но не втиснулся между перил, проломил их, сверзся в море и потоп. Скорее всего «хатамото» торопился не к своему атаману, который в ярости срубил бы ему башку, а тоже хотел смыться. Тацумаса предположил, что в следующем рождении скверный толстяк родится какой-нибудь нечистой брюхатой тварью, притом, конечно, не на благословенной японской земле. Например, огромной речной свиньей кавабута[52] на далеком материке Афурика.
А болван Сарухэй тем временем гонялся за своим дурацким шелком. Пока невероятный слух об исчезновении «Золотого Коку» сам собой дойдет до гор Нагано, да пока Кровавая Макака доберется до Эдо, пройдет самое меньшее дня три.
Мастер намеревался использовать это время с толком.
На исходе великой ночи, уже дома, сидя перед золотым трофеем, глава школы и старший ученик обсудили дальнейшее. В главном они сходились: сейчас надо будет затаиться и подождать, пока в банде все переубивают друг друга. Данкити считал, что это случится в течение месяца, а учитель, лучше знавший человеческую породу, полагал, что «Обезьянья рука» не продержится и двух недель.
В любом случае всем ученикам будет приказано исчезнуть, «Золотой Коку» следует хорошенько спрятать, а Тацумаса с женой и ребенком на время скроются в надежном месте.
У Данкити возникла интересная идея. Он сказал, что, увидев в опустевшей нише иероглиф «дракон», Сарухэй наверняка сгоряча кинется сюда, в Дом-под-березой. Не попросить ли господина Касидзаву устроить засаду? Чтобы арестовать Тадаки и его подручных за вторжение в чужое жилище. Разумеется, это не бог весть какое преступление, но за него можно будет посадить Сарухэя в тюрьму на законном основании. Без главаря шайка распадется быстрей.
Тацумаса заколебался. Достойно ли благородным ворам прибегать к помощи полиции? Но Данкити был убедителен. Это не донос, а обычный обмен услугами, настаивал он. Мало ли вы помогали господину советнику? Пусть он просто пришлет людей охранять ваше имущество. Разве это не прямая обязанность полиции? Ну а коли в дом заявится Сарухэй, то кто будет в этом виноват кроме него самого?
– Иначе он разгромит и испакостит прекрасный мир, который с такой любовью и заботой устроила здесь О-Судзу-сама, – показал рукой вокруг Данкити. – И конечно, чтоб досадить вам, негодяй срубит березу.
Это последнее соображение положило конец сомненьям. Тацумаса поручил ученику наведаться к господину Касидзаве, но про себя подумал, что Данкити все-таки чересчур гибок в своих нравственных правилах.
Очень довольный тем, что сумел переубедить самого сенсея, ученик спросил:
– Вы уже придумали, куда и как спрячете «Золотой Коку»?
Оба посмотрели вниз. По неразумению Ямабито плюхнул груз на чайный столик, и у того подломились ножки. Теперь «Золотой Коку» лежал на полу.
– Да, – коротко ответил мастер.
Подождав немного и не дождавшись пояснений, Данкити задал следующий вопрос:
– А куда спрячетесь вы сами? Думаю, какуси-торидэ для данного случая не годится.
Какуси-торидэ, «потаенный замок», был убежищем на время какой-нибудь опасности. Например, когда у господина Касидзавы в прошлом случался приступ служебного рвения, или тот же Сарухэй затевал очередное покушение на мастера. Превосходно отделанный, просторный подвал заброшенного храма [53] не раз служил Тацумасе надежным пристанищем.
– Почему не годится? – спросил он, хотя сам был того же мнения. Стало любопытно, что ответит Данкити.
– На сей раз Сарухэй будет особенно настойчив и безжалостен. Очень возможно, что сумеет поймать кого-то из наших. Разбойники подвергнут пленника жестоким истязаниям. Прошу прощения, что говорю вслух подобное… – Данкити замялся. – …Но я бы не стал слишком полагаться на стойкость некоторых ваших питомцев, особенно новичков. Нет, сенсей, это должно быть место, о котором в школе никто не знает.
К такому же выводу пришел и Тацумаса, а все же обругал помощника:
– Проговаривать столь оскорбительные для товарищей вещи действительно недостойно. Стыдись!
Он был несправедлив к Данкити, и сам это понимал, а все же не сдержал раздражения.
Сухо сказал:
– Хорошо. Я подберу такое место, о котором никто из наших знать не будет. Даже ты.
– Мудрое решение, учитель, – поклонился бедный безропотный Данкити. – Во мне вы можете не сомневаться, я-то выдержу любые пытки, но мне было бы неловко перед товарищами, если б я знал то, чего не знают они.
– Вот это сентенция, достойная благородного вора, – проворчал Тацумаса.
Первый день он занимался самым важным и трудным: «Золотым Коку». На второй день отправился в Ёсивару, поздравить госпожу Орин с приходом «сливовых» дождей.
В городе многие уже знали, что великий Тацумаса похитил у Кровавой Макаки его сокровище. На паланкин с гербом Китодо оглядывались, некоторые почтительно кланялись или издавали приветственные возгласы. Горожане были рады унижению проклятого Сарухэя.
Слышала о подвиге, конечно, и госпожа Орин. Куртизанка всегда была осведомлена о любых мало-мальски примечательных происшествиях, а тут такое событие!
Сама она разговор на эту тему не завела, но после приветствий, обсуждения природы и прочих светскостей, когда Тацумаса потер подбородок, изображая смущение, сразу пришла ему на помощь.
– Как иногда бывают несносны эти наши условности! – воскликнула красавица. – Вам нужно меня о чем-то попросить, ведь не чай же вы пришли попить в столь хлопотное для вас время. Я тоже сгораю от любопытства. А мы сидим и обсуждаем, до чего прекрасны капли дождя на лепестках роз! Говорите же, дорогой Сиракаба, зачем вы пожаловали?
Поразительная проницательность при столь молодом возрасте – ведь госпоже Орин немногим за двадцать, мысленно восхитился Тацумаса. Но женщины умнеют много раньше, чем мужчины. Особенно если уже родились умными и хорошо узнали людей благодаря такому ремеслу.
– Вы знаете, я для вас сделаю всё, что угодно, – прибавила куртизанка. – Я стольким вам обязана.
Это было правдой. Иначе Тацумаса сюда бы не пришел.
В благодарность за урок любви, так порадовавший госпожу О-Судзу, мастер несколько раз помогал прославленной красавице по своей части. Естественно, что теперь Орин-сан будет счастлива оплатить долг признательности. На этом и строятся отношения между порядочными людьми. Ткань дружбы и приязни сплетается из нитей взаимных услуг и обязательств.
– Цело ли то убежище, в котором вы прятались от госпожи О-Бара? – спросил Тацумаса, сразу переходя к делу.
Пять лет назад у госпожи Орин, начинавшей входить в большую моду, возник конфликт с мамой-сан соперничающего заведения, особой злобной и мстительной. Пока Тацумаса вел непростые переговоры с той непочтенной матроной, молодая куртизанка две недели пряталась где-то в горах за озером Миягасэ. Потом она очень привлекательно описывала это укромное место, сочетающее надежность, удобство и красоту.
– Да, я и теперь иногда совершаю паломничество в мою славную пещерку – одна, без служанок, – молвила красавица. – Осенью уж непременно, чтобы полюбоваться красной листвой. А иногда просто так, если вдруг почувствовала, что устала от людей. В моем ремесле это самое опасное – разлюбить людей. Пожив три-четыре дня отшельницей, помедитировав, полюбовавшись восходами, я будто рождаюсь сызнова. Опять всех люблю и умею в каждом клиенте находить нечто милое или интересное, ибо…
Не закончив фразы, Орин изысканнейшим жестом хлопнула себя по лбу:
– Ах, я догадалась! Вам нужно где-то пересидеть, пока Макака не свалится с ветки и не свернет себе шею? И вы хотите, чтобы об этом месте никто из ваших не знал. Очень мудро и предусмотрительно. Прошу вас и госпожу О-Судзу воспользоваться моим скитом. Но там всё очень непритязательно, даже нет зеркала – в пещере я отдыхаю от косметики. Мне будет ужасно неловко перед вашей супругой за такое убожество!
В смущении она прикрыла лицо узорчатым рукавом.
Тацумаса прыснул. Хихикнула и Орин, поняв, что немного перебрала со скромностью.
– Вы в убожестве существовать не можете. Уверен, у вас там очаровательно. – Мастер посерьезнел. – А кто кроме вас знает про это место?
– Теперь только я. Раньше еще знала моя дорогая Риэ, она всё там и обустроила, ведь я так беспомощна! Но вам известно, что бедняжки нет в живых…
Прекрасные глаза наполнились слезами – один Будда ведает, поддельными или настоящими. Все куртизанки высшего разряда обучены искусству легко и красиво плакать.
Про гибель Риэ мастер, конечно, слышал. В прошлом году история о том, как самоотверженная служанка заслонила свою госпожу от клинка собственным телом, наделала много шума.
Один провинциальный самурай влюбился в знаменитую куртизанку до безумия – не в романтическом, а в медицинском смысле. Помешавшись от страсти, он попытался совершить с предметом обожания мури-синдзю[54], двойное самоубийство без согласия со стороны женщины. Госпожу кинулась защищать Риэ, и пока сумасшедший рубил ее мечом, Орин в одном нижнем кимоно, без обуви, выбежала на улицу и позвала на помощь. Во всех книжных лавках потом продавались гравюры: полуодетая прелестница с эротично растрепанной прической беспомощно заламывает руки, за нею гонится пучеглазый монстр с окровавленным мечом, его сзади хватает за ногу разрубленная пополам верная служанка. Слава роковой красавицы Орин после этого распространилась еще шире, а плата за ее любовь выросла вдвое.
В путь отправились ночью, чтобы не привлекать внимания. Три скромных паланкина без гербов: в первом Тацумаса, во втором Орин, в-третьем О-Судзу с младенцем. Двенадцать самых крепких учеников тащили носилки полубегом, сменяясь через каждый ри. В трехстах шагах впереди рысил Данкити, зорко вглядываясь во тьму.
На рассвете они были уже за Синагавой, пообедали в Цуруме, заночевали в Сагами, а на следующий день достигли подножия невысокой и круглой, как голова Будды, горы Хотокэяма. Оттуда дорога поднималась вверх.
Тацумаса распрощался с учениками. Условились с Данкити так: когда на вершине Хотокэямы задымит костер, это будет знак, что опасность миновала, можно возвращаться в Эдо.
О-Судзу [55], Тацумаса взял тяжелую поклажу, Орин – легкую. Оба доставшиеся ей узла (в них одежда и всё потребное для ребенка) куртизанка взяла в одну руку, в другую – веер, и пошла первой, томно обмахиваясь. Она любила посетовать на свою хрупкость, но на самом деле была сильной. Доктор Саяма вряд ли ошибался, говоря, что она проживет сто лет.
Женщины вообще оказались выносливее Тацумасы. Непривычный к длинным пешим прогулкам и тасканию тяжестей мастер вдруг остро ощутил, что пятьдесят лет – уже порог старости и постарался не расстраиваться по этому поводу.
Госпожа О-Судзу выглядела свежей и бодрой, но, поглядывая на мужа, то и дело жаловалась на изнеможение. Поэтому путники делали частые привалы, любуясь горными видами. До нужного места, перевала Харами, они добирались часа четыре. Оттуда открывался обзор всей [56] – картина, от величественности которой у Тацумасы перехватило дыхание.
С этой точки вниз шел спуск – не отвесный, но такой крутой, что без веревки сорвешься. Веревка была спрятана под корнями могучей, согнутой ветрами сосны, прицепившейся на самом краю смотровой площадки. Размотав конопляный канат, из-за бурого цвета неразличимый на бурой же земле, Орин завернула полы кимоно, подвязала шнуром рукава и спустилась первой до самой кромки обрыва. Когда-то здесь отвалился кусок горы, и сразу под разломом образовалась пещера. С перевала ее было совсем не видно.
На последнем своем отрезке канат был завязан несколькими узлами, чтобы ставить на них ноги. Привычная Орин ловко соскользнула в пещеру, для благородного вора это перемещение тоже никакого труда не составило. Не устрашилась высоты и госпожа О-Судзу. В юности она была цирковой акробаткой и не совсем забыла былые навыки. Она поплотнее привязала малютку к спине, без колебаний повисла над пропастью.
Дитя запищало от восторга. Моя кровь, подумал Тацумаса.
Он еще дважды поднялся и спустился, перенеся в пещеру поклажу.
Убежище было превосходным. Должно быть, куртизанке здесь хорошо медитировалось. Она умудрилась сделать скит уютным: застелила пол соломенными циновками, а грубые каменные стены прикрыла шелковыми ширмами. Посередине, [57]. Орин сказала, что разжигать его можно только в темноте или при густом тумане, тогда с дороги не увидят дыма.
Убедившись, что гости устроены, куртизанка засобиралась в обратный путь. Ей нужно было дотемна спуститься на равнину, где дожидался паланкин. Тацумаса хотел проводить благодетельницу, ибо такой нарядной красавице негоже в одиночку расхаживать по безлюдным местам, но госпожа Орин отказалась.
– Добираюсь же я сюда одна во время своих «паломничеств», – засмеялась она. – На худой конец у меня есть вот это и вот это. – И тронула сначала перламутровую рукоять стилета, а потом заколку в высокой прическе [58].
Куртизанки такого уровня отлично владеют искусством самозащиты – без этого в их ремесле нельзя. И если Орин не заколола того полоумного самурая, то исключительно из опасения нанести ущерб репутации заведения. Что это за чайный дом, в котором убивают клиентов?
Распрощались сердечно, со многими поклонами. Тацумаса придержал конец веревки, чтобы красавице было удобнее карабкаться, и тактично отвел взор, дабы не увидеть снизу лишнего.
Только оставшись с женой и маленьким сыном в уединенной пещере, Тацумаса понял, зачем изнеженная столичная модница совершает утомительные паломничества в этот пустынный край.
Какой покой! Какой пьянящий воздух! И как прекрасно оказаться вне времени, вне условностей и забот [59]!
Впервые он и жена существовали в одном измерении: вместе бодрствовали ночью, вместе спали днем. Какое, оказывается, наслаждение спать, обнявшись с любимой – просто спать.
Никогда прежде они не проводили целые сутки вместе, никогда столько не разговаривали обо всем на свете. Даже стало жаль минувших лет, потраченных на одно лишь постижение Китодо.
Но Тацумаса утешался мыслями о будущем. Размышлял он вслух, потягивая трубку, вороша в очаге уголья или пригубливая чай. По задней стене пещеры стекала чистая горная вода, чай из нее заваривался отменный.
– Мы будем жить долго и сполна насладимся старостью, – говорил Тацумаса. – Я буду учить сына Китодо с раннего возраста, и через двадцать, много двадцать пять лет он будет готов к тому, чтобы возглавить школу. Тогда я удалюсь от дел, и мы с тобой заживем друг для друга. Мы все время будем вместе.
– Как сейчас? – хихикнула жена. – Днем я буду ворочаться от бессонницы, а ночью клевать носом?
– Нет, – великодушно молвил Тацумаса. – Я привыкну жить дневной жизнью, как все нормальные люди. И закат у нас будет закатом, а восход – восходом.
Здесь-то было наоборот. Волшебным горным восходом они полюбовались перед тем, как лечь спать.
– Мы будем ценить каждый день старости как величайшую драгоценность, потому что для кого-то из нас он может оказаться последним. Но к тому времени мы с тобой научимся понимать смерть и не бояться ее. И если ты уйдешь первой, я сразу же последую за тобой.
Произнеся эти слова, он растрогался, на глазах выступили слезы, но О-Судзу опять захихикала. Здесь она все время находилась в приподнятом настроении.
– Еще бы! Без меня вы все равно пропадете. Не сумеете держать себя в чистоте, станете есть всякую дрянь и очень быстро преставитесь от грязи и несварения желудка. – Она сняла ему с подбородка табачную крошку. – Нет уж, я должна пережить вас хотя бы из чувства долга. А потом, с почетом похоронив великого мастера Китодо, я подумаю, не выйти ли мне замуж за какого-нибудь опрятного старичка.
Столь легкомысленных речей Тацумаса не слышал от нее с тех пор, когда они были еще любовниками и не задумывались о женитьбе.
Конечно, много беседовали о сыне. С ним Тацумаса тоже никогда еще не проводил столько времени, а это оказалось очень приятно.
Часами они играли в немудрящую забаву. Отец протягивал палец и веселился, когда младенец сжимал его кулачком или совал в рот и начинал грызть единственным зубом. Сердился, что не получается хорошенько укусить, свирепо морщил лобик. Один раз Тацумаса развернул пеленку, чтобы пощупать, крепкая ли у сына [60] – и был окачен упругой горячей струйкой. Это было единственный раз, когда суровое дитя расхохоталось.
– До шести лет он твой, – говорил жене Тацумаса. – Балуй и ласкай его, сколько захочешь. Но потом я заберу у тебя мальчика и займусь его воспитанием сам. Он будет таким мастером Китодо, какого еще не бывало. Он затмит меня.
– Зачем ему Китодо? – возразила О-Судзу, дома никогда и ни в чем не перечившая супругу. – Зачем воровать, пускай и благородно, юноше, который унаследует такое богатство? Целый коку золота – это сколько в деньгах?
– Около десяти тысяч рё или сорок миллионов медных моммэ. Можно купить сорок миллионов мисок лапши и дважды накормить всю Японию, – засмеялся Тацумаса.
– Я даже не могу себе вообразить такую сумму, – вздохнула жена и мечтательно протянула: – Ах, богатство это так красиво!
– Какое небуддийское утверждение! – удивился он. – Разве богатство – это красиво?
– Если правильно обращаться с деньгами, то очень. Дело даже не в том, что человек может окружить себя только красивыми вещами и избавиться от разных некрасивых, докучных забот. Богатство дает много большее: свободу. И еще великую радость помогать тем, кому ты захочешь помочь. Быть может, наш мальчик пожелает стать не благородным вором, а художником, или коллекционером, или благотворителем.
Мастер изумился пуще прежнего.
– Но мужчине невозможно жить без высокой цели, без вечного стремления к самоусовершенствованию! Разве может быть что-то лучше, чем Китодо, наказывающее плохих богачей и помогающее хорошим беднякам? Какая благотворительность требует столько ума, ловкости, таланта и приносит столь утонченную радость?
– Но вдруг в нашем сыне пробудится какой-нибудь другой дар?
Эта мысль неприятно поразила Тацумасу. Он задумался. Представил: вдруг ему не суждено довести воспитание наследника до конца? Или вообще – уйти из жизни еще до того, как это воспитание начнется?
На всякий случай мастер написал сыну послание, где излагалась самая суть Китодо, и спрятал письмо в тайник.
На составление вроде бы недлинного письма в будущее ушел весь остаток ночи. Каждое слово, каждый росчерк здесь имели значение. Когда Тацумаса закончил, пора было уже встречать рассвет, второй с тех пор, как супруги поселились в пещере.
Они сели у очага, приготовившись насладиться перед сном чудесным зрелищем. Мастер держал у губ чашку чая, жена мечтательно улыбалась.
– Самое прекрасное – даже не восход солнца, а предшествующая ему розовая дымка, – сказала О-Судзу, и в следующий миг, словно исполняя ее желание, предрассветный туман начал окрашиваться в цвет утра.
В первые мгновения черно-серая мгла лишь чуть-чуть запунцовела, но чернота быстро отступала, бледнела, багрянец же разливался шире и креп. Вот остались только сизые и розовые тона. Воздух мерцал и переливался, в нем посверкивали пылинки.
Но чернота будто перешла в контратаку. Она спустилась сверху вниз густой полосой. Полоса на конце раздвоилась, закачалась. Тацумаса не сразу понял, что это сверху кто-то лезет по канату. А когда понял, на краю уже стоял человек. За его спиной клубился туман и казался уже не розовым – кровавым.
Плечистый детина в подвернутом кимоно и заляпанных грязью хакама, с красным платком на голове, с огромным тесаком на поясе уставился на мастера злобными глазами. Небритое лицо оскалилось улыбкой.
– Он здесь! – заорал человек кому-то наверх. – Господин, он здесь!
Можно было спихнуть чужака в пропасть – он стоял на самой кромке, а потом обрубить канат, и никто бы больше в пещеру не попал. Но это значило бы нарушить Канон. Поэтому Тацумаса не тронулся с места, а лишь взял жену за руку.
По веревке спустился еще один незнакомец – с такой же разбойничьей рожей, как первый, но богаче одетый, при двух мечах. И лишь третьим явился Сарухэй Тадаки, он же «ночной сёгун» и Кровавая Макака.
– Прости, это моя вина, – сказал Тацумаса жене. – Я должен был понимать: женщина, продающая любовь за деньги, продаст что угодно.
– Быть может, госпожа Орин просто не выдержала боли, – ответила О-Судзу. – Но это теперь неважно. Важно, что я жила с вами долго и счастливо.
Они поклонились друг другу и умолкли, потому что Сарухэй разразился громовым хохотом.
Разглядывая своего ликующего врага, мастер думал, что за годы, миновавшие после их встречи, господин Тадаки постарел. Жизнь, которую он ведет, подрывает здоровье и разрушает душу. А вот мартышка Хання, выглядывавшая из-за плеча акунина, нисколько не изменилась. Она была в алом наряде и почему-то в шапочке с рогами.
– Где «Золотой Коку»? – спросил Сарухэй, отсмеявшись.
Ответа он не дождался и велел остальным:
– Искать!
Во все стороны полетели миски и чашки, соломенные маты, ширмы. От грохота проснулся в углу младенец, недовольно заверещал.
О сыне Тацумаса сейчас старался не думать. Он пытался сочинить предсмертное стихотворение, а детский крик мешал сосредоточиться.
О-Судзу сомкнула веки, ее губы шевелились. Наверное, читала сутру.
– Нигде нет! – сообщили разбойники.
Тогда главарь сел перед мастером на корточки, схватил пятерней за косичку.
– Где мой «Золотой Коку»? Куда ты его спрятал? Зарыл тут где-нибудь?
– Вам наверняка рассказали, что всю поклажу я доставил сюда сам. Разве я поднял бы целый коку? – спокойно молвил Тацумаса.
– Так где же золото?
Можно было, конечно, сказать, что оно утоплено в заливе, но Сарухэй не поверил бы, да и не хотелось омрачать последние минуты ложью.
– Оно к вам не вернется. Шайке «Обезьянья рука» конец, – с тихой улыбкой сказал мастер.
Налитые кровью глаза Сарухэя сузились.
– Связать. Расшевелить угли, чтоб жарче горели, – отрывисто скомандовал атаман.
Мастеру скрутили руки за спиной, стянули веревкой щиколотки. Полупогасший очаг, перед которым он сидел, заалел, заплевался искрами.
– Думаешь, я буду жечь огнем тебя? – усмехнулся Сарухэй. – Нет. Я знаю, болью от тебя ничего не добьешься. Но говорят, ты очень любишь жену… Держите ее крепче!
Двое бандитов схватили О-Судзу, обнажили ее по пояс, содрав верхнее и нижнее кимоно. Тацумасу много лет не видел жену голой. Защемило сердце. Как пожухло ее тело! Но такою, с опустившейся грудью и морщинистым животом, он любил О-Судзу еще больше, чем прежде. За ее спиной розовел утренний туман.
– Скажи где золото, и я ее отпущу, – пообещал Сарухэй. – Тебя – нет, врать не стану. Но жену и сына пощажу. Слово Тадаки. И тебя убью достойно, ударом меча. Голову потом с почетом омою, оберну в шелковый платок. Ты достойный противник.
Моя голова ему нужна, чтобы потом всем показывать: я-де победил, а благородный вор проиграл, подумал Тацумаса, но ничего говорить не стал.
– Упрямишься? Сначала я буду жечь твою жену. Потом зажарю сына. А сам ты умрешь позорной и смешной смертью. Видишь, моя Хання в красном и с рогами? Она сегодня [61]. Ты примешь смерть не от меня, а от обезьяньей лапки.
Сарухэй подтащил к себе мартышку, сунул ей свой кинжал.
– Покажи, как я тебя учил. Хання, бей!
Ощерив мелкие зубы, обезьянка испуганно замахала перед собой клинком.
– Быстро она тебя не убьет, но рано или поздно докромсает. И ты войдешь в историю под прозвищем «Убитый макакой Тацумаса». – Рот злодея кривился в ухмылке, но глаза смотрели тревожно. Голос чуть дрогнул. – Послушай, твоя жизнь кончена. Какая тебе разница, достанется мне «Золотой Коку» или нет?
– Какая мне разница, под каким прозвищем я войду в историю? – тем же тоном ответил мастер.
Он думал: не в том дело, как тебя запомнят. Главное, как ты уходишь – победителем или побежденным. Побежденный – тот, кто сдался. Победитель – всякий, кто побежденным себя не признал. Даже если убит.
– Начинайте, – махнул своим подручным Сарухэй.
Они швырнули О-Судзу на колени, ткнули головой в угли. Жена не закричала, но хрипа сдержать не смогла. Запахло обожженной плотью, палеными волосами.
Тацумаса вытянул связанные ноги вперед и сунул их в очаг, чтобы разделить боль с женой. Это помогло.
– Пока хватит.
Госпожу О-Судзу распрямили, сбили с прически пламя. Лицо она сразу закрыла руками, чтобы воля супруга не ослабела при виде ожогов.
– Что ты за мужчина, если можешь спасти свою женщину и не делаешь этого? – презрительно спросил Сарухэй. – Кусок золота для тебя дороже семьи. Тьфу!
Зубы Тацумасы были крепко стиснуты. Мерзавец прав! Победа, поражение – какая всё это чушь по сравнению с ладонями, которыми О-Судзу прикрывает свое бедное лицо.
– Я скажу… – глухо проговорил благородный вор.
Но он не успел выдать тайну.
Не поднимаясь с колен, О-Судзу рывком перекатилась назад через голову и вскочила на ноги. Совсем как в юности, когда Тацумаса впервые увидел тоненькую акробатку на рыночной площади. Ах, как она плясала на канате! Как крутила «змеиное колесо»! И лицо у О-Судзу тоже стало таким, как тридцать лет назад. Свежим, юным, бесстрашным. Обожженные пятна на щеках были как девичий румянец.
Разбойники не ожидали от пожилой дамы такой прыти и обомлели.
– Простите, что ухожу первой, – сказала мужу О-Судзу.
Сарухэй крикнул:
– Держите ее, болваны!
Но куда там. Развернувшись, О-Судзу прыгнула прямо в сияющий туман, как в прежние времена на представлениях ныряла рыбкой через обруч с острыми ножами.
Радужная дымка приняла ее и снова сомкнулась.
И к Тацумасе пришло хокку. Очень хорошее – жалко никто не услышит и не оценит.
- Всё, конечно, уйдет.
- Но тлеет прекрасная
- Искра надежды.
Разъяренный Сарухэй сыпал проклятьями, колотил своих помощников ножнами меча. А Тацумаса смотрел на рассвет, шептал последнее стихотворение.
– Ты думаешь это всё? – подлетел к нему акунин. – Нет, самое интересное впереди! Эй, мальчонку сюда!
Ребенок уже не орал, а сипел – голосишко сел от крика. Бедняжка не привык, что он выражает недовольство, а никто не обращает внимания.
По-настоящему красивое хокку всегда таит в себе сокровенный смысл, понятный лишь посвященным. Когда Тацумаса сунул ноги в огонь, веревка, которой они были связаны, опалилась и затлела. Теперь она уже прогорела насквозь.
Великий мастер Китодо быстро и плавно поднялся.
– Прощай, Масахиро! – крикнул он сыну.
И не распрямившись до конца, побежал вперед. Точно таким же прыжком, как минуту назад жена, влетел в розовое Ничто.
О-Судзу, я к тебе…
Какой это был счастливый полет!
Побежденный Сарухэй долго скрежетал зубами, глядя в пропасть. Туман всё никак не рассеивался. Тел внизу было не видно.
– Что будем делать, господин? – спросил Рюдзо Сибата, ёкохамский «даймё». Здешние места находились на его территории.
– Трупы подобрать. Тацумасе отрезать голову… Нет, всем троим. [62]. – Тадаки мог говорить только короткими фразами. Его душили слезы отчаянья. – Пусть все знают. Мы сильны и без «Золотого Коку». И мы не ведаем пощады.
Сибата кивнул своему бойцу Нэдзуми. Тот обнажил тесак, наклонился над не умолкающим младенцем.
Вдруг к Сарухэю пришла идея.
– Постой-ка. Какая это будет месть, если я сразу же отправлю к Тацумасе его сына?
Искаженное горем лицо поползло в стороны – это сквозь рыдания пробилась улыбка.
– Не-ет, я придумал кое-что получше. Сибата, заберешь щенка себе. Усынови его.
– А? – вытаращился ёкохамский «даймё».
– Как его – Масахиро? Пусть будет Масахиро Сибата. Воспитай щенка по-нашему. Разбойником, убийцей. Никаких дурацких правил и канонов. Вот тогда Тацумаса на том свете изойдет кровавыми слезами.
Тадаки улыбался всё шире.
– Сын Тацумасы не станет «благородным вором». Он станет моим солдатом и будет жить по моим правилам. Вот что такое настоящая месть, болваны. Учитесь.
Болваны склонились в безмолвном восхищении.
А розовая дымка наконец растаяла, и открылся вид на равнину Мусаси, прекрасный как никогда.
第一幕
Действие первое
После конца света
Мастер одиночества
Когда на синем горизонте возник белый пупырышек, гора Фудзи, оркестр заиграл бравурную увертюру из «Микадо».
Всю ночь грохотала гроза, еще полчаса назад на небе клубились тучи, и вдруг внезапно развиднелось. Лазурь внизу, лазурь наверху. Ясно, чисто и радостно. Только вынырнувшее из небытия светило было странное, словно протухшее яйцо: в середине ярко-желтое, по ободку коричневое. За шестьдесят три года жизни Масахиро Сибата такого солнца никогда не видывал. Это удивительное природное явление, совпавшее с днем возвращения на родину, вероятно, предвещало нечто очень плохое или очень хорошее, но станет ли задумываться о подобной ерунде человек, расставшийся с надеждами и страхами?
Есть старинное сказание о споре между поэтессой [63], воспевавшей вечную любовь, и умудренным отшельником. Монах произносит обычную буддийскую проповедь о том, что любовь – химера, самообман глупца. Человеку лишь кажется, что он вместе с кем-то, на самом деле он всегда один. Один входит в жизнь, один из нее уходит, и путь от входа до выхода преодолевает тоже сам по себе, как сумеет. Попутчик может помочь или помешать, но у него свой путь, своя карма. И Наноха-Сикибу дает старцу знаменитый ответ: «Это суждение верно касательно большинства людей, но не всех. Некоторые ведь рождаются на свет не одинокими, но вдвоем с близнецом. А некоторые и умирают вдвоем, совершая синдзю». Вся притча, собственно, является предисловием к классическому хокку, которое Масе раньше очень нравилось:
- В рай, в ад – все равно,
- Куда иду я, милый.
- Только бы с тобой.
Эта красивая формула пригодна не только для влюбленного, но и для самурая, избравшего Путь верности. В прежние времена, потеряв господина, такой вассал совершал дзюнси, «умирал вослед» – и никаких проблем. Но в двадцатом веке этакую штуку способен отмочить только какой-нибудь замшелый [64], сделавший харакири после кончины императора Мэйдзи. Человеку, приобщившемуся к европейской культуре (или испорченному ею?) подобный поступок представляется дикостью.
У Запада другая мудрость. Ее труднее уловить, потому что она теряется в потоке избыточных слов, но в минуту сатори даже европейские поэты (философы-то никогда) подчас могут лаконично сформулировать главное. Например, лучшее стихотворение многоречивого русского поэта Жуковского состоит всего из четырех строчек, нечто среднее между хокку и танка.
О милых спутниках, которые наш свет Своим сопутствием для нас животворили, Не говори с тоской: их нет;Но с благодарностию: были.
Японцы, увы, так относиться к потерям не умеют. И если осиротевший самурай не взрезал себе живот, он становится ронином, бесцельным и бесприютным бродягой. Великая мудрость жизни, однако, состоит в том, что уважающий себя человек любую судьбу может превратить в Путь. Что ж, Масахиро Сибата принялся осваивать Путь Одиночества и за короткий срок достиг на нем мастерства. Двигаясь от дана к дану, он все лучше овладевал Кодокудзюцу, «искусством одиночества», которое делает человека бесстрашным и неуязвимым. Бесстрашным – потому что больше нечего страшиться; неуязвимым – потому что ничем не дорожишь. Судьба пугает тебя, грозится что-то отобрать, а тебе ничего не жалко. Подавись, судьба! В мире нет человека защищеннее и свободнее ронина – если, конечно, тот не ищет нового господина. Масахиро Сибата не искал. Служить господину, который будет хуже прежнего, он не сумел бы, а лучшему на этом свете взяться неоткуда.
Кодокудзюцу прекрасно еще и тем, что, давая иммунитет от страха и всевозможных терзаний, оно не мешает пользоваться жизненными удовольствиями – совсем наоборот.
Эта приятная мысль пришла неуязвимому ронину в голову, потому что на променадную палубу как раз поднялась миссис Тревор, должно быть, привлеченная звуками музыки.
Маса полуотвернулся, помахивая веером, а когда почувствовал на себе взгляд дамы, слегка вздрогнул, словно пронзенный энергетическим лучом, резко обернулся и просветлел лицом (для этого нужно чуть расширить глаза, приоткрыть рот и капельку его раздвинуть). Всякой женщине отрадно, когда на нее так смотрят.
Подошел, поцеловал руку в стиле «сдержанная страстность» (стремительный наклон, затем почтительное замедление, губами кожи не касаться, а лишь слегка согреть ее дыханием). Японский наряд в сочетании со старомодно европейскими манерами – тот самый подход, который требовался в данном случае.
– Миссис Тревор…
Она ласково улыбнулась.
– Мистер Сибата, наше путешествие подходит к концу, а мы с вами всё церемонничаем. Вы позволите называть вас по имени – Масахиро?
– Для вас – просто Маса. Мне будет жаль с вами расставаться. Не знаю, как у вас, а у меня останется ощущение чего-то несбывшегося.
Он нежно, печально улыбнулся:
– Но ничего не поделаешь. Через час наши пути разойдутся. Может быть, в следующей жизни они сойдутся опять, и мы встретимся. – Махнул стюарду, взял с подноса два бокала. – Выпьем за это, Наоми? Вы позволите и мне называть вас по имени?
Ну и, конечно, Наоми Тревор сказала в ответ то, что следовало:
– Плаванием жизнь не заканчивается. Надеюсь, мы будем видеться и в Иокогаме.
В ответ Маса приподнял брови, как бы пораженный столь неожиданной перспективой, но вообще-то ухаживание шло стандартным маршрутом, по установленному расписанию – как трамваи в прекрасной дореволюционной Москве. Метафора была неудачная, про московскую жизнь ронину вспоминать не следовало, чтобы не будоражить сердце, и Маса мысленно поправился: как ритуальный танец в спектакле Но. С Наоми будет еще две платонических встречи, а на третьем свидании миссис Тревор позволит собою полакомиться. Женщины так предсказуемы.
В одной научной книжке Масахиро Сибата прочитал, что у нормального мужчины к шестидесяти «зов гормонов» затухает. У восточной медицины для этого возрастного явления имеется более приятное объяснение: если мужчина развивается гармонично, его жизненная энергия Ки[65] понемногу перемещается из земной сферы в небесную. Плотское искание перевоплощается в духовное. Но у Масы пока не перевоплотилось, или же гормоны были какие-то неправильные, всё звали и звали.
Люди без понятия и фантазии полагают, что седина и морщины понижают мужскую привлекательность в глазах противоположного пола. Глупое заблуждение! Просто если ты немолод, не картинный красавец и не богач, которому легко превратить жизнь избранницы в праздник, используй иные средства.
Для мужчины даже выгодно выглядеть старше своего возраста – при условии, что ты по-прежнему молод сердцем и энергией Ки. У женщин-то наоборот: для них лучше иметь сердце старухи и молодую кожу. Последнее дается нелегко, но женщинам вообще живется труднее.
Мужчине зрелых лет, во-первых, следует избегать стратегической ошибки: ни в коем случае не тратить время на ту половину женщин, которые ищут в партнере сына. Совершенно достаточно второй половины, кому нужен партнер-отец. Таких на свете за вычетом девочек и старух (Маса взял для расчета перепись 1920 года) примерно двести пятьдесят миллионов – вполне достаточно. Определяются женщины, жаждущие удочерения, по тысяче разных примет, это легко.
Правило второе. Всякая мало-мальски привлекательная женщина воображает себя цветком, а мужчин – пчелами, которые только и мечтают присесть на ее венчик и высосать сладкую пыльцу. Поэтому цветок ведет свою извечную игру, то приоткрывая лепестки, то их закрывая. Секрет успеха в том, чтобы переменить роли, и тут у Масы была разработана безотказная технология.
Отлично работала трогательная повесть об обете целомудрия, принятом верным ронином в память о погибшем господине. Ничто так не распаляет женщину, как мужская неприступность. «Я всегда очень любил любовь и считался в ней мастером, – отрешенно говорил одинокий ронин, – но на похоронах господина поклялся никогда больше не радовать своей плоти чувственными удовольствиями, даже с самой ослепительной красавицей. (Тут обязательно следовал восхищенный взгляд на собеседницу). Нарушить обет для меня – все равно что погубить свою душу». Какая же дама после таких слов не захочет проверить, готов кавалер ради нее погубить свою душу или нет? Сами соблазняли и даже уговаривали. Маса некоторое время противился, но сила Красоты оказывалась сильнее Долга.
Правило третье: коли ты японец, живущий в западном мире, делай ставку на женщин, которые возбуждаются от необычного, от экзотики. Маса заделался сугубым, выражаясь по-украински, щирым японцем. Вместо пиджака и брюк стал носить кимоно, обзавелся веером, голову обрил на манер Будды, освоил таинственно-восточную, как бы обращенную внутрь себя улыбку. Любительницы экзотики клевали на него, как красноперки на мотыля. Дальше – просто. Потихоньку выбираешь леску, поддерживая в рыбке градус любопытства: открываешь всё новые и новые грани своей необычности. Здесь у Масахиро Сибаты имелся большой арсенал. Завершающим ударом обычно становился доверительный рассказ о мистическом знаке – маленьком красном драконе [66]. (Была у Масы такая татуировка – всю жизнь, черт ее знает откуда). «Где это – точка тандэн?» – разумеется, спрашивала бедная пчелка. «На два дюйма ниже пупа», невозмутимо отвечал ронин (не будем забывать, давший обет целомудрия). После долгих уговоров давал взглянуть «одним глазком», а от татуировки и до мужского корня недалеко. За долгие годы красный дракон притащил Масе немало добычи. Хозяин волшебной рептилии всегда думал, что именно для этого загадочная татуировка ему и ниспослана. Но теперь, в нынешнем своем возрасте, на высоком дане Кодокудзюцу, прозрел: смысл дракона совсем в другом.
В японском бестиарии есть десять существ, традиционно покровительствующих тому или иному магистральному направлению жизни. Обычно человек сам решает, какой из этих знаков поставить несмываемой печатью на свою кожу, а у Масы выбора не было. Герб красовался на нем с младенчества, и может быть даже являлся не татуировкой, но родимым пятном (вот было бы интересно!).
Восемь символических существ – земные: Черепаха Камэ знаменует мудрость; Бабочка Тёхо – безмятежность и семейное счастье (поэтому ею любят украшать себя женщины); Карп Кои – преодоление трудностей, поскольку эта упрямая рыба норовит плыть против течения; Кошка Нэко – процветание; Журавль Цуру – удачливость; Лягушка Каэру – неуязвимость в жизненных странствиях, ибо глагол «каэру» значит «благополучно возвращаться»; Барсук Тануки – творческий поиск, ведь этот зверь отличается озорством и непредсказуемостью (когда-то, в юности, у Масы была такая кличка); Лев Комаину – разумеется, обозначает силу.
И только два зверя – фантастические, каких в природе нет: Феникс Хоо и Дракон Тацу. Они противоположны. Феникс олицетворяет душевный покой и ведет человека к умиротворению, просветлению – это явно не карма Масахиро Сибаты. Ему по дороге с драконом, покровителем героев и одиночек, следующих особенным, ни на что не похожим путем. Ну и потом, одно дело, если у мужчины в низу живота какая-то лягушка или рыба – и совсем другое, когда гордо предъявляешь избраннице красного дракона.
С миссис Тревор впрочем до дракона пока еще было далеко. Одинокий ронин ухаживал за ней всего второй день и пока еще только добрался до драматического повествования о родителях.
– Видите вон ту дальнюю скалу? – кивнул Маса на первый попавшийся утес, прилепившийся на краю мыса Кэндзаки. Позатуманил глаза, потом вовсе прикрыл. – Я уже говорил вам, что я происхожу из старинного рода якудза, который обитал в этих краях, когда Иокогама была всего лишь рыбацкой деревней. Моего отца звали Рюдзо Сибата …
В юности он рассказывал эту байку бессчетному количеству девушек, всякий раз показывая на скалу или обрыв, какие оказывались неподалеку.
– Он почти не выходил из тюрьмы. На левой руке у него оставалось всего два пальца. Однажды – мне было три года – отец бежал из темницы и спрятался вон на том маяке. Мать отправилась к нему на свидание, захватив с собой меня. Но убежище окружили сёгунские стражники. Сдаться отец не захотел, он был гордый человек. Они с женой предпочли уйти из жизни. Родитель ударил матушку ножом в сердце, а потом перерезал себе горло. На сына рука у него не поднялась, он смог лишь сбросить меня в море. Но я не утонул, стражники вытащили – уж не знаю, к добру или к худу…
Слова, интонация, сдержанная дрожь голоса – всё было отточено до совершенства. Рассказывая, Маса обычно думал о чем-то другом, не забывая подглядывать из-под ресниц за реакцией слушательницы.
Миссис Тревор слушала, как надо: вздыхала, всхлипывала. Вообще-то она была женщина с твердым характером, но какая же японка останется равнодушной, внимая рассказу о двойном самоубийстве влюбленных и родительском мягкосердечии. (Несмотря на свои британские манеры и английский язык, Наоми была японкой, фамилия ей досталась от мужа, поэтому объяснять, что такое «якудза» и зачем отрезают пальцы, не понадобилось).
Чувствительную историю Маса придумал еще в детстве – так давно, что сам в нее поверил. Даже видел, как всё это произошло – ну, или могло произойти.
Однако сейчас, близ родного берега, случилось странное.
Вдали, среди золотистых блесток, покачивалась рыбацкая лодка. Там – согнутая фигурка в широкой соломенной шляпе, в воде торчали поплавки раскинутой сети и чернела точка – детская голова. Так в этих краях издавна ловили рыбу: мужчина сидел в лодке, а мальчишка шести-семи лет находился в воде, беспрестанно расправляя невод, чтобы его не закрутило течением. Ребенка постарше деревянные поплавки-укидама на поверхности не удержали бы, а плавать столько часов подряд никому не под силу.
И Маса словно провалился в иную жизнь, нырнул с головой в далекое прошлое, забарахтался в нем, чувствуя холод тяжелой воды, вкус соли на запекшихся губах, жар солнца на затылке, ломоту в пальцах. Грубый голос Дзиро проорал сквозь слепящие лучи: «Не спи, бандитское отродье! Работай руками!».
Наверное, Дзиро не был злым человеком. Родных детей он никогда не бил. Просто не считал приемыша своим.
Деревенские жили трудно. У них было издавна заведено покупать за небольшие деньги никому не нужных малышей-сирот, подращивать, а затем ставить на тяжкую работу, которую жалко поручать собственным детям. Маса всегда знал, что он чужой, сын якудзы. У него и фамилия была другая – Сибата. Это уже потом, когда он сбежал в Иокогаму и прибился учеником к шайке Тёбэй-гуми (а куда еще было деваться «бандитскому отродью»?), мальчишке рассказали, что его отца звали Рюдзо и он был большой человек, оябун собственной банды. Но та банда сгинула, и куда подевался Рюдзо Сибата, никто не знал. Не беда – Маса придумал отцу красивую гибель, а заодно придумал и мать, о которой вообще было ничего не известно. Мальчик вырос, обучился лихому ремеслу якудзы и, верно, прожил бы свой век совсем другой, волчьей жизнью, если бы однажды, сорок пять лет назад, не повстречал в Иокогаме молодого [67] с седыми висками…
Когда-то Маса пообещал себе забыть свое раннее горько-соленое детство, никогда о нем не вспоминать. И забыл – казалось, что навсегда. Но стоило ему вновь попасть в те же места, увидеть, как болтается на волнах рыбацкое суденышко, как торчит из воды «живой поплавок», и память выдернула из каких-то темных подвалов то, что там, оказывается, хранилось и за все эти годы нисколько не потускнело.
– Что же вы замолчали? – сострадательно молвила Наоми Тревор. – …Впрочем не отвечайте. Представляю, каково это – вернуться на родину после столь долгой разлуки. За сорок лет сильно изменился весь мир, а Япония – больше любой другой страны. Вы почувствуете себя Урасимой Таро[68], не узнавшим родного края.
– Нет, это не так. – Маса глядел на берег, чувствуя сладкую ломоту в сердце. – Я узнаю здесь всё. Фудзи, холмы, цвет воды, переливы воздуха, оттенки света и тени, запах водорослей, каждый мыс, каждую бухту. И крышу храма над [69]. И морской рейд…
С каждой минутой город приближался, делался всё больше. Он, конечно, изменился. Над крышами там и сям поднялись башни со шпилями, корабли у причалов тянулись к небу не мачтами, а трубами, но это была та самая Ёкохама, где когда-то всё было испытано впервые: горе и счастье, победа и поражение, любовь и ненависть, страх и преодоление страха. Одним словом, это была Родина.
Масе показалось нелепым, что он так долго оттягивал свое возвращение, сомневался, стоит ли, и мысленно повторял древнее танка:
- Проста истина:
- Не возвращайся, ронин,
- В прежние места –
- Ведь лепестку сакуры
- Не вернуться на ветку.
Танка ошибалось. Человек не лепесток, подвластный лишь законам ботаники и гравитации. У тебя всегда есть выбор, и самые главные решения нужно принимать сердцем. Сердце же звало Масу на Родину, к прежней привязанности, с того самого момента, когда не осталось других. Правда, имелась вдова господина, но близость Масы только мешала ей построить какую-то другую жизнь, служила вечным напоминанием о горестной потере. Оба они были не мягкими лепестками сакуры, а твердыми яблоками. Яблоки же, ударившись о землю, откатываются в разные стороны…
Дорога на Родину получилась длинной, но куда спешить мастеру одиночества? К тому же денег хватило только на билет до Шанхая, где Маса провел больше полугода, прежде чем смог двинуться дальше. Господин всегда говорил, что деньги, лежащие на американском счете, принадлежат им обоим. Но пусть всё достанется вдове и сыну. Ронин с чековой книжкой – это абсурд.
В Шанхае возвращенец не сидел сложа руки – вторая половина обратного пути требовала подготовки.
Впервые Маса работал сам по себе, используя накопленные за бурную жизнь навыки: привычку к опасностям, гибкость ума, а также знание человеческой природы и обоих миров, Западного и Восточного.
Этот капитал оказался очень кстати, когда пришлось взяться за одно деликатное дело, чреватое слезами и кровью.
Юный сын японского генерального консула Татибаны имел неосторожность страстно влюбиться в дочь опиумоторговца Крюкова, ведавшего транзитом магического зелья между Шанхаем и Харбином. Господин Татибана, понятное дело, был в ужасе: сын связался с преступным кланом! Не легче было и положение русского бандита. Он тесно сотрудничал с китайскими триадами, которые ненавидят японцев, и зазорная связь дочери означала для Крюкова ужасную потерю лица.
История Ромео и Джульетты красиво смотрится только на сцене, а в жизни ничего красивого тут нет, одни проблемы. Да и сами влюбленные, честно сказать, были нехороши: мальчишка глуп и прыщав, девчонка вздорна и тоща.
Японский отец хотел отослать заблудшего отпрыска на родину, но тот грозился разрезать себе живот. Русский отец охотно прикончил бы соблазнителя, но его дочь сулилась повеситься. Добром всё это кончиться не могло. Весь иностранный сеттльмент Шанхая ждал неминуемой трагической развязки.
Здесь Масахиро Сибата и пригодился. Он предложил свои конфиденциальные услуги господину Татибане, сказав, что хорошо знает русских и все их повадки. Консул ухватился за это предложение, как утопающий за соломинку.
На самом деле повадки русских были не при чем. Просто Маса присмотрелся к девице и понял: она, во-первых, пустоголова, а во-вторых, относится к породе женщин, влюбляющихся в необычное, потому и втрескалась в японца. Дальнейшее было вопросом техники. Зрелый японец с экзотической биографией и богатым жизненным опытом гораздо необычнее японца юного и сопливого. Девушка колебалась недолго. Мальчишка, конечно, поубивался, но харакири не сделал – стыдно накладывать на себя руки из-за вертихвостки. В общем, все остались живы, обошлось без кровопролития.
Оба отца были несказанно благодарны спасителю. То есть русский-то отец вначале не очень, он даже подослал наемных убийц – прикончить нового совратителя дочери, но прикончить Масахиро Сибату очень непросто. С первого раза это не получилось, а второй попытки Маса ждать не стал. Ночью он пробрался в спальню господина Крюкова, проскользнув мимо охраны, и разбудил обидчивого родителя. Залепил ему рот пластырем и на хорошем русском языке объяснил, как славно и удачно всё устроилось. Крюков был хоть и бандит, но человек умный, иначе он не сумел бы вести дела с триадами. Попросив жестом позволения снять пластырь, хозяин дома сердечно поблагодарил ночного гостя и даже предложил выплатить награду, но Маса отказался. Ронин не берет денег за любовь, даже если девушка такая глупая и тощая (последних слов он, конечно, не сказал, чтобы не ранить отцовское самолюбие).
Тогда господин Крюков предложил Масе заработать: сопроводить груз в Харбин и вернуться обратно с деньгами. Предложение было принято. Покойный господин такой работы не одобрил бы, но, посмотрев на гражданскую войну в России, Масахиро Сибата перестал понимать, что такого уж страшного в наркотиках. Если человек, не нашедший в своей жизни никакого смысла, предпочитает реальности опиумные грезы – его дело. По крайней мере он не навязывает свою химеру другим людям, расстреливая тех, кто с нею не согласен.
Задание было легким, оплата превосходной. Крюков остался доволен и предложил постоянную службу, на очень хороших условиях, но в планы ронина не входило вновь становиться самураем. Кто летал за белым орлом, не полетит за навозной мухой.
Японский отец отблагодарил Масу на свой консульский лад: помог возобновить давно утраченное подданство [70]. Без этого вернуться на родину не получилось бы.
Чиновник, выписывавший паспорт, спросил, какими иероглифами пишется имя репатрианта.
– «Сибата» – «Травяное поле», да?
Когда-то фамилия так и писалась, самым заурядным образом. Но для новой жизни Маса решил избрать иное написание, более уместное для одинокого ронина.
– Нет, «Си-бата», «»[71].
По-другому теперь выглядело и личное имя «Масахиро»: вместо «Правдивой Широты» – «»[72]. Потому что Красота выше Правды, а после шестидесяти человеку пора переходить от широты и экспансии к прицельному Поиску окончательного смысла жизни.
– Вы всё блуждаете где-то мыслями, – вернула собеседника к реальности миссис Тревор.
Рассеянность в разговоре – правильный стиль поведения на первой стадии ухаживания, но нельзя, чтобы женщина вообразила, будто ею пренебрегают. Поэтому Маса виновато моргнул и поработал мышцами щек, чтобы они смущенно порозовели.
– Вы странно на меня действуете, Наоми. Сам не пойму, в чем дело…
Это было немного в лоб, но времени оставалось совсем мало. Пароход уже входил в акваторию порта.
Запоздалость ухаживания объяснялась тем, что вплоть до вчерашнего дня Маса был занят.
Из Шанхая он плыл в каюте второго класса, делил ее с утомительно говорливым и скучным агентом страховой компании «Ллойд», который к тому же еще и храпел. Но звучные рулады Маса терпел только одну ночь. Уже на второй день плавания он нашел путь к сердцу и телу милой американской отельерши из города Кобе, большой ценительницы экзотических мужчин. Каждый вечер Маса незаметно проскальзывал на палубу первого класса и отлично проводил ночи с мягкой женщиной на мягкой постели. В Кобе мисс Виксен сошла, и, помахав ей на прощанье веером, Маса приступил к осаде Наоми Тревор, которая обитала в Иокогаме и годилась для будущих сухопутных отношений.
Она была совершенно в Масином вкусе – полная, сочная, круглолицая – и к тому же переживала трудное время: ее бросил муж. Он был англичанин, очень богатый человек, оптовый торговец шелком. Год назад открыл филиал в Шанхае, стал проводить в Китае много времени и в конце концов завел там вторую семью, которая постепенно стала первой. Наоми плавала в Шанхай оформлять развод. Все ее разговоры были о том, что она содрала с негодяя три шкуры и что своей обожаемой дочери он больше никогда не увидит. Показала фотокарточку: прехорошенькая девочка лет тринадцати без малейших следов европейской крови – настоящая [73], только не в кимоно, а в платье с кружевным воротником. Миссис Тревор говорила, что не портит свою Глэдис «туземным воспитанием». Все разговоры дома только на английском, прислуга тоже сплошь британская, за исключением боя, который таскает за барышней в школу ранец и зонт.
Маса сочувственно слушал (с женщинами это самое главное), мужа осуждал, дочкой восхищался. Событий не торопил. Как уже было сказано, до завершения осады оставалось еще два этапа.
На первом миссис Тревор должна была вернуться домой, поглядеть вокруг себя взглядом отринутой супруги и напугаться, что ее женская жизнь закончена. На втором – вспомнить интересного спутника с парохода «Емпресс оф зе Ист» и самой его разыскать, а потом прорваться через обет целомудрия (про который она еще не знала) к татуировке дракона и соседствующему с ней мужскому корню. Дозревание миссис Тревор продлится не больше недели.
– Вон там, на [74], мой дом. – Наоми показала на холм, где еще в семидесятые годы прошлого века начали селиться состоятельные иностранцы. – Надеюсь увидеть вас в гостях. Любой рикша знает особняк Треворов.
– Скоро не получится. У меня будет много хлопот. Я ведь говорил вам, что собираюсь открыть в Иокогаме агентство.
– Да, но не сказали, какое.
– Детективное, – небрежно сказал Маса. – Я по профессии международный сыщик, расследую разные сложные преступления, с которыми не может справиться полиция.
Нарочно сообщил об этом только теперь, напоследок. Лишний крючок, который приблизит встречу на берегу.
– Ах, как интересно! – взвизгнула Наоми. – Я обожаю истории про сыщиков! Вы читали «Приключения Шерлока Холмса»?
– И даже участвовал в одном из них, при весьма неординарных обстоятельствах, – дал еще один залп Маса. – К сожалению, сейчас не успею рассказать – нужно собирать вещи.
Поцеловал даме пальцы, на сей раз коснувшись их жаркими губами. Сокрушенно вздохнул, откланялся.
Вещи могли и подождать, их у Масы было немного, но захотелось побыть ближе к воде с ее будоражащими память запахами.
С парадной верхней палубы он спустился на самую нижнюю, под которой находились недра огромного парохода – трюм, машинное отделение, грузовые отсеки.
Море теперь было совсем рядом, покачивалось всей своей мармеладной массой, но пахло оно не юностью, а большим портом – мазутом, маслом, бензином, как на рейде Нью-Йорка или Кронштадта.
Протиснуться к борту не получилось, там плотно теснились трюмные пассажиры – китайские и корейские рабочие, приплывшие в Японию на заработки: сплошная стена черных и коричневых [75], синих рабочих курток, суконных шапочек и потертых кепок. Только один в толпе был одет по-японски, в простое серое кимоно. Сзади было видно крепкую шею, непокорно оттопыренные уши, блестящий ежик торчащих кверху волос. Стоило Масе сделать шаг к лопоухому, и тот быстро обернулся. Этот человек спиной чувствовал взгляд, была у него такая особенность. Маса несколько раз пытался подойти к нему незаметно – просто так, для эксперимента – и ни разу не удалось.
– А, загадочный ронин, ходок по бабам, – сказал человек по-русски. – Ну что, доплыли? – И пропел: – Плыли по реченьке белые гуси…
Ухмыльнулся, пожал руку. В узких глазах поблескивали нетерпеливые искорки. Маса с удивлением разглядывал свежевыбритое лицо, на котором проступили резкие носогубные, открылась твердая линия насмешливого рта, каменный подбородок с ямочкой.
– Где борода и усы? Я тебя еле узнал.
– Борода не в честь, а усы и у кошки есть, – засмеялся балагур. – Что, брат, сердчишко стук-стук? Могу себе представить. Я-то не был дома двадцать лет, а ты все сорок.
– Сорок один год с половиной, – поправил Маса.
Познакомились они так.
В первую ночь после отплытия из Шанхая, изгнанный из каюты храпом страхового агента Маса вышел пройтись на палубу и на темной корме было у него наваждение. Он как раз мрачно думал: за каким чертом тащусь я в чужую мне Японию, когда моя страна давно уже Россия, которая теперь тоже чужая, но по которой я тоскую каждый день. И вдруг замер – не поверил ушам.
Приятный хрипловатый голос негромко пропел в ночи:
– Раскинулось море широко, лишь волны бушуют вдали…
– Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли, – неуверенно подхватил Маса.
Прожектор на мостике прочертил лучом черноту, выхватил из нее человеческую фигуру, и теперь Маса уже не поверил глазам. Перед ним, изумленно щурясь, стоял не русский, а японец. Несколько секунд они пялились друг на друга, оба в кимоно, в деревянных [76].
Потом, конечно, заговорили – по-русски, которым ночной певец владел даже лучше Масы. Ни малейших признаков акцента в скупой, но быстрой речи не было.
Человек был осторожен. Много расспрашивал, мало рассказывал. На вопрос об имени назвался сказочным персонажем:
– Зови меня [77]. А ты кто?
– Ронин, – буркнул Маса, обидевшись на невежливость. Момоторо, Персиковый мальчик, – персонаж из детской сказки.
Так они потом и называли друг друга: Момотаро и Ронин, хотя через некоторое время, присмотревшись к Масе, новый знакомый представился и по-настоящему. Имя у него было неожиданное: [78].
Когда Маса удивился, откуда у японца русская фамилия, Момотаро ответил, что прозвание, с которым рождаешься на свет, ровным счетом ничего не значит, ибо досталось тебе по случайности. Нужно брать имя самому, со смыслом. С этим Маса был совершенно согласен и спросил, в чем смысл фамилии «Кибальчич».
Оказывается, был такой революционный герой, изобретатель бомбы, которая убила царя Александра II. Кибальчич был ученый физик. Уже сидя в тюрьме и ожидая казни, он проектировал ракету для полетов в космос – за это Момотаро его и зауважал.
– Красивый человек, – признал Маса. – Среди революционеров вообще много красивых людей, хотя сама революция очень некрасивая.
И рассказал про красивых террористов «Боевой группы», которых когда-то знавал в Москве. Полицейский начальник, ловивший террористов, был гораздо хуже их. За это господин с Масой его наказали.
Момотаро выслушал давнюю историю внимательно. Оказалось, что он знает про «Боевую группу» и чтит память ее участников, «легендарных героев революционного движения» (прямо так и назвал, торжественно). После этого разговора собеседник стал менее осторожен в общении и даже кое-что о себе рассказал.
Он был японский солдат, попавший в русский плен [79].
– Я тогда был совсем зеленый, дурак дураком, – усмехаясь, говорил Момотаро-Кибальчич. – Считал плен страшным позором, хотел покончить с собой, воткнул себе в живот перочинный ножик, да он оказался коротковат. Вылечили меня. Вылечили и выучили. Посмотрел я на другую жизнь, на ту, первую революцию, прибился к настоящим людям. И потом меня куда только не бросало – и на запад, и на восток…
На этом, правда, изложение биографии и закончилось. Момотаро часто сам себя обрывал, вечно чего-то недоговаривал.
Они виделись каждый день. Обоим доставляло удовольствие говорить по-русски. Много спорили – конечно, о революции.
– Ты не смотри, Ронин, что она в России получилась такая суровая и страшная, – горячился Кибальчич, когда Маса ругал красных. – Там у народа нет привычки к самодисциплине. От этого бардак и всякие эксцессы. Но революция в любом случае начинается с разрушения: «Весь мир насилья мы разрушим». Это работа тяжелая, грязная, весь перепачкаешься. Потом на обломках старого порядка надо построить новый, правильный порядок. Тоже пыли наглотаешься, прежде чем наведешь чистоту. Русским одним управляться трудно. Помочь им надо, навалиться всем миром голодных и рабов.
Маса придерживался иного мнения – был согласен с покойным господином, всегда говорившим, что грязными руками ничего чистого не создашь. Но слушал Кибальчича с интересом. Догадаться, по каким делам этот русский японец возвращается на родину, было нетрудно. Однажды Маса напрямую спросил: ты что, из Коминтерна?
– Любопытной Варваре на базаре нос оторвали, – засмеялся Момотаро. Как всякий иностранец, хорошо выучивший русский, он обожал пословицы и поговорки.
Но на другой вопрос – почему ты носишь кимоно, попутчик ответил с неожиданной откровенностью:
– Документишки у меня хреноватые. Надеюсь, что посконного Япона Японыча в Иокогаме сильно шмонать не станут.
Затем, наверное, и бороду с усами сбрил – чтоб ничем не отличаться от обычного японца.
Сегодня Кибальчич был не такой, как всегда. Всё время находился в движении – подергивал головой, хрустел пальцами.
– Волнуешься перед встречей с Родиной? – понимающе спросил Маса. Его тоже потряхивало.
– Волнуюсь, что возьмут на цугундер, – хмуро ответил Кибальчич.
Достал из-за пазухи паспорт.
– Видишь, на фотокарточке морда вдвое толще. И место рождения стоит «Осака». Похоже по говору, что я из Осаки?
Последнюю фразу он произнес по-японски, стараясь говорить [80]. Прозвучало неубедительно.
Маса рассматривал в небольшой, но сильный цейссовский бинокль [81], с которой было связано столько воспоминаний. Там многое изменилось, но некоторые здания остались. Где-то вон за теми густыми деревьями (сорок лет назад они были саженцами) должен находиться дом 6, консульство страны «Оросиа», где юный якудза по прозвищу Барсук учился быть русским самураем…
– Дай-ка.
Кибальчич отобрал окуляры, навел их на какую-то точку и застыл.
– Что у тебя на том холме? – спросил Маса. – Родной дом?
– Тюрьма Нэгиси, – пробормотал Момотаро, – самая большая в Японии. В ней сидит немало товарищей. Как бы и мне там не оказаться с моей дерьмовой ксивой… Ладно. Бог не выдаст – свинья не съест.
Наверху ударил гонг, приглашая пассажиров респектабельных классов на прощальный капитанский коктейль. Надо было идти туда – трогательно расстаться с Наоми и между делом обронить, что жить Маса пока будет в «Гранд-отеле».[82] Иначе как она потом разыщет своего утешителя?
– Ну, желаю удачи. Пойду.
– Бывай, – буркнул Кибальчич, не глядя сунул руку. – Бинокль не подаришь? По русскому обычаю положено, при расставании. А я тебе часы отдам, московские, «Павел Буре».
В детективной профессии без хорошего бинокля никуда, поэтому Маса на обмен не согласился.
– Мы в Японии, тут такого обычая нет.
– Жлоб ты, Ронин!
На том и расстались.
На квартердеке оркестр наигрывал сладкую арию Тётё-сан, чистая публика потягивала коктейли, капитан в белоснежном мундире посматривал на часы – до полудня, официального времени прибытия, оставалось пять минут. Пароход «Емпресс оф зэ Ист» славился своей пунктуальностью.
Корабль медленно плыл вдоль длиннющего, чуть не километрового пирса, к назначенному месту стоянки. Там выстроилась вереница автомобилей и рикш, лиловела букетами и женскими кимоно толпа встречающих. Лиловость объяснялась тем, что сегодня был первый день осени, когда все дарят друг другу цветы хаги, а дамы, обладающие хорошим вкусом, подбирают наряд того же изысканного оттенка.
Надо было торопиться.
Маса высмотрел у перил миссис Тревор и направился к ней, однако наткнулся на непредвиденное препятствие. Дорогу заслонила сестра Турнип, дьяконисса иокогамской лютеранской миссии, жуткая мымра. Она всегда ходила в сером платье с белым фартуком и мышином чепце, с крестом на груди. Недавно читала в салоне лекцию «Эволюция греха в современном мире» и все время кидала на Масу злобные взгляды. Обычно он обходил святую женщину стороной.
Попробовал обогнуть и теперь, но не получилось.
Дьяконисса прошипела:
– Оставьте миссис Тревор в покое! Я видела, как вы стервятником кружите вокруг бедной потерянной овечки! Она уважаемая прихожанка нашей церкви, я не позволю вам ввергнуть ее в грех! Ступайте своей дорогой, распутник, иначе я расскажу Наоми, как вы каждую ночь таскались к вашей американской блуднице!
– Сделайте милость, – поклонился Маса. – Это только поднимет меня в глазах Наоми. Нормальные женщины обожают Дон Жуанов.
Надо будет заменить историю об обете целомудрия на историю о вечном поиске недостижимого женского идеала, мысленно скорректировал он стратегию.
Вежливые, с достоинством произнесенные слова (а может быть, упоминание о «нормальных женщинах») ввергли фурию в бешенство.
– О, я хорошо знаю мужчин вашего сорта! – занеистовствовала она. – Вы плодите зло и разврат, уверенные, что вам всё сойдет с рук! Вы превращаете мир в Содом и Гоморру! Однажды из-за таких, как вы, Господь прольет дождем горящую серу, разрушит города и всех, кто живет в городах, и всё, что растет на земле! Он спасет праведных, а грешников вроде вас погубит! Читайте «Бытие», глава 19! И коли иного средства нет, я призываю Всевышнего не медлить! Пускай грянет конец света!
Сестра Турнип воздела очи и перст к небу.
Небо откликнулось гневным рокотом, от которого затряслась и вздыбилась земля, а море вспучилось пенными гребнями и провалилось ямами. Грянул конец света.
Произошло это 1 сентября 1923 года в 11 часов 58 минут и 34 секунды. Тысячи остановившихся хронометров зафиксировали этот момент с точностью.
Нечеловеческое
Земной шар повел себя, как вымокшая собака – встряхнулся, и пассажиры «Восточной Императрицы» брызгами полетели во все стороны. Масу швырнуло на дьякониссу, он сшиб достопочтенную даму с ног, да еще бухнулся сверху, но мисс Турнип не возмутилась, а пролепетала:
– Это что, Апокалипсис? Господи, я не хотела…
Что это такое, Маса не знал. В юности он перенес несколько довольно сильных землетрясений, но такой бешеной тряски, чтобы подпрыгивал горизонт, такого оглушительного грохота, будто палят двенадцатидюймовые орудия, никогда не бывало.
– Конец света, – сообщила ему мисс Турнип – он не столько услышал, сколько догадался по движению губ. – Вот он и настал! Господи, прими мою душу!
Но вцепилась при этом в Масины плечи. Оттолкнув дуру, он поднялся на четвереньки, пополз по прыгающей палубе к борту, схватился за него, поднялся.
Открывшееся зрелище было невероятным. Весь пирс ходил асфальтовыми волнами выше человеческого роста, змеился огромными трещинами. В одну из них скатился автомобиль «форд», и зазубренные края тут же сомкнулись, будто жующие челюсти. Вот огромный кусок причала, в двести или триста метров длиной, накренился, [83]. С него посыпались люди. Судя по разинутым ртам, они истошно орали, но утробный рык планеты заглушал крики.
Маса зажмурился, чтобы не видеть этой картины – и вдруг бешеная вибрация прекратилась. Открыв один глаз, он зачем-то взглянул на часы, как будто имело значение, сколько сейчас времени. Сначала подумал, что они стоят – длинная стрелка так и застыла, чуть-чуть не дойдя до полудня. Но вот она дрогнула, переместилась ровно на двенадцать, и оказалось, что нескончаемый ужас длился меньше минуты.
Трясти перестало, но не стих гром, от которого закладывало уши. Теперь стало ясно, что он несется с берега. Маса взглянул на Иокогаму и не увидел ее. Там, где только что находился город, покачивалась огромная коричневая туча. Почти такого же цвета, разве что немного светлее, было небо. Вдруг оно зашумело, засвистело – еще громче, чем гремела земля, и пришло в движение. Воздух колыхнулся, упруго ударил Масу в грудь – он упал бы, если бы не держался за перила.
Тайфун! Это налетел тайфун, невиданной ярости и мощи. Он сдул с полуразрушенного пирса уцелевших людей, подбросил кверху рикш вместе с колясками, больно сыпанул в лицо колючей пылью.
Закашлявшись, Маса присел, спрятался за борт. По палубе, подпрыгивая и звеня, прямо на него с бешеной скоростью катилась медная оркестровая тарелка – он еле увернулся. Потом произошло совсем страшное: над головой пролетел маленький мальчик в матросском костюмчике – должно быть, вихрь вырвал малыша из материнских рук. Маса рванулся ухватить ребенка, но тот уже исчез.
Словно насытившись этой жертвой, ужасный ветер стих – так же внезапно, как налетел. Но тут на землю упало коричневое небо. Всё исчезло в густейшем тумане, каких в природе не бывает. Маса поднял руку и едва разглядел ее контур. Цвет воздуха посекундно менялся: бурый, охряной, грязно-желтый, но видимости не прибавлялось.
Кажется, и правда конец света, подумал ронин – не со страхом, а со странным удовлетворением. За тысячелетия сменилось столько поколений, и только нынешнему выпало увидеть конец представления. Ну-ка, что последует дальше? Неужто Страшный Суд? Нет, если правы христиане, сначала поскачут всадники Апокалипсиса.
Всадники пока не скакали. Снова поднялся ветер – тоже очень сильный, но уже не ураганной ярости. Он поменял направление на противоположное, дул с моря на сушу. Унес плотный туман, а вместе с ним и громыхание.
Воздух восстановил прозрачность, наступила абсолютная тишина. Маса увидел, что на палубе повсюду сидят и лежат пассажиры. У всех одинаковые застывшие лица. Никто не кричит, не двигается. Вспомнил картину художника Бурюрова «Гибель Помпеи», на которой все бегут, мечутся, вопят. Было совсем непохоже. Какая-то женщина сидела с вытянутыми вверх руками и тупо на них смотрела. Мать, у которой тайфун вырвал ребенка, догадался Маса и поскорее отвернулся.
Теперь Иокогаму было хорошо видно, только смотреть там стало не на что. Будто аравийская пустыня: одни барханы, и больше ничего. [84]. Остались покрытые белой пылью развалины. Уцелело только то, что не было создано людьми: холмы, деревья, море. Вдали, как ни в чем не бывало, сияла снежная Фудзи. Вернулось и сверкающее медное солнце – будто в зенит взлетела та чертова тарелка, едва не прикончившая Масу.
Но и тишина с неподвижностью долго не продержались. После краткого антракта ужасный спектакль возобновился, задействовав новые сценические эффекты.
Сначала в правом углу панорамы, над огромной цистерной с надписью “Standard Oil” вскинулось огненное облако, переметнулось на соседние резервуары, и скоро в той стороне всё загрохотало, заполыхало. Взрывы поменьше ударили и в других местах. Тут и там взметнулись красные языки пламени. После великой тряски и великого тайфуна настал черед великого пожара.
Хорошо еще, что не все три беды одновременно, подумал Маса – и сглазил.
Пароход качнуло снова и затрясло почти так же сильно, как несколько минут назад, пассажиры опять повалились кто куда. Как клоуны в цирке, только никто не хохочет, мелькнуло в голове у Масы. Хотя как знать? Может быть, Главный Зритель сейчас и покатывается со смеху. С чего люди взяли, что Он добр и к ним благорасположен?
Нелепую мысль выдуло новым порывом ураганного ветра, только теперь он был еще страшнее, потому что подхватил с земли бушующее пламя и потащил его над бухтой, крутя огненными смерчами. Небо запереливалось чернотой и багрянцем, вниз посыпались обжигающие хлопья. Теперь трясение земли, тайфун и пожар объединились, чтобы уничтожить остатки жизни.
Шквал подкатил прямо Масе под ноги непрошенный подарок – дьякониссу, дрыгающую тощими ногами из-под задравшейся юбки. Мисс Турнип что-то кричала, разевая желтозубый рот.
– «…И отверз шестую печать, и был великий тряс, и солнце почернело, как рубище, и луна сделалась, как кровь!», – разобрал Маса и подумал: не похоже, что мы доживем до луны.
Он отвернулся и обмер, завороженный фантастической картиной. Над самой поверхностью моря неслось огненное торнадо, поджигая яхты и лодки. Паруса и мачты пылали на них куклуксклановскими крестами. Вот загорелась целая шхуна. Смерч сделал вид, что обойдет «Императрицу» стороной, метнулся к середине бухты, но передумал. Вернулся к пылающей шхуне, легко сорвал ее с якоря и погнал прямо на неподвижный, беспомощный пароход.
Вот и конец, сказал себе Маса. Надо бы составить прощальное хокку, но за оставшуюся минуту хорошего стихотворения не сочинишь, а с плохим помирать не хочется.
– А-а-а-а-а!!! – завопила «Емпресс оф зе Ист» в тысячу глоток.
И тут сверху, будто из-под облаков, раздался зычный бас. Это капитан проорал в рупор:
– Женщины и дети – вниз! Мужчины – спрятаться за борта! Команда, по пожарным постам!
Повелитель корабля стоял на мостике в уже не белом, а грязно-сером, присыпанном пеплом кителе и без фуражки, седые волосы растрепались, но голос был тверд, жесты уверенны.
– Кларк, раскатать шланги! Поливать борта и палубу! Сандерс, берите своих, багры в руки и на нижнюю палубу! Отталкивайте шхуну, не дайте ей прилипнуть! Боцман, песок! Коллинз, снять брезент со спасательных шлюпок!
Сразу все задвигалось, забегало. И перестало быть страшно.
Хорошо, когда в хаосе и неразберихе появляется кто-то, твердо знающий, что делать, подумал Маса, хватая с пожарного щита топор.
Самый главный Капитан – Тот, что на небе – всегда ценит мужество. И в последний миг Он сменил гнев на милость: ветер опять задул в другую сторону. Корабль-смерть прошел в каких-нибудь двадцати метрах от парохода, накренился, повернул в открытое море.
Выходит, жизнь еще не заканчивалась.
В этот нескончаемо длинный день Маса прощался с нею еще несколько раз. Дважды трясло так сильно, что пароход бешено бился об останки пирса и было неясно, выдержит обшивка или нет. Потом опрокинуло трап, на котором несколько добровольцев соскребали с борта пылающий мазут. Все остальные свалились в горящую воду и сгинули, а Маса висел над смертью на канате минут пятнадцать, пока не вытащили. На этот раз он успел сочинить прощальное трехстишье, довольно приличное:
- Так и не знаю,
- Зачем я жил на свете,
- Но всем спасибо.
Заучил стихотворение наизусть – еще пригодится, и может быть, скоро.
Паники и смятения на корабле, однако, больше не было. Капитан Денфорд ввел особый режим и установил жесткую диктатуру. Одного пассажира, британского генерала, который попытался оспаривать приказ, моментально скрутили и посадили под арест. Все распоряжения членов команды должны были беспрекословно исполняться пассажирами. Мужчин капитан объявил мобилизованными и разбил на группы. Раненых отнесли в медицинскую часть. Все продукты и запасы воды были изъяты, помещены под охрану. Женщина, у которой тайфун унес ребенка, выйдя из ступора, начала громко выть – ее усыпили уколом морфия.
Маса смотрел на капитана с восхищением. В обычное время Денфорд казался болваном. Говорил дамам тяжеловесные комплименты, за бокалом вина рассказывал плоские анекдоты и сам громко им смеялся. Но в критической ситуации оказался на месте – спас свой корабль.
Правда, к вечеру, когда непосредственная опасность миновала и можно было бы уже поуменьшить строгостей, капитан продолжал их наращивать – вошел во вкус. Маса слышал, как Денфорд говорит помощнику, что на корабле, попавшем в бедствие, капитан соединяет в себе единобожие с самодержавием: он и Год, и Кинг.
Вечером ввели комендантский час. Пассажирам было приказано разойтись по каютам и до утреннего гонга не выходить. Повсюду – в коридорах, на палубах, в переходах – расхаживали патрули из матросов и прислуги, которая тоже сделалась очень важной. Даже соседские визиты из каюты в каюту строжайше воспрещались. В размноженном на машинке приказе капитана объяснялось, что это делается в целях пресечения панических разговоров.
Их на протяжении ужасного дня действительно было много.
На виду у пассажиров горел полумиллионный город – пожар охватывал все новые кварталы. [85] вздымался до самого неба и в той стороне, где в двадцати милях к северо-востоку находилась японская столица. Собираясь кучками, люди спорили, что произошло: небывалой силы землетрясение или некая глобальная катастрофа? Судя по тому, что по заливу перекатывались высокие волны, в открытом море разразилось еще и мощное цунами.
Профессор физики из Токийского университета предположил, что в планету врезался огромный метеорит, а если так, то, возможно, разрушена вся земная цивилизация. Эту апокалиптическую версию укрепляло зловещее молчание пароходной радиостанции. Может быть, она просто сломалась от сотрясения, но спросить было не у кого – радист лежал в лазарете без сознания, его швырнуло виском об угол.
Насчет всей земной цивилизации Маса не знал, но от страны Японии, кажется, мало что осталось.
Ночью, когда исстрадавшиеся пассажиры крепко спали или мучились кошмарами в своих каютах, одинокий ронин предавался мрачным раздумьям. Страхового агента не было. Во время самого первого толчка бедолага упал с лестницы и сломал себе шею. Ныне он почивал в трюмном холодильнике – тихо, без храпа.
Моя роковая карма – всем приносить беду, виноватил себя Маса, имея в виду отнюдь не только злосчастного храпуна. Жил в России – и что с нею случилось? Погибла. Достиг японских берегов – не стало и Японии. В этом самоистязании, пожалуй, был и совсем крошечный оттенок гордости.
Но на пароходе, оказывается, спали не все.
Кто-то негромко постучал в окно. В сером квадрате чернела ушастая голова. Момотаро. Показал жестом: подними раму. Перелез в каюту. Он был не в кимоно, а в дешевой пиджачной паре и сатиновой рубахе без воротничков, сделавшись похож на татаристого мастерового – на Волге таких полным-полно.
Весь день приятели не виделись, потому что одним из первых приказов капитан объявил нечистую трюмную публику «временно интернированной» и снизу никого не выпускали. Пароходный диктатор не доверял пролетариату.
Момотаро, конечно, заговорил о грозных событиях, но в неожиданном тоне.
– Как мне свезло со всей этой хреновиной! – прошептал он, возбужденно сопя. – С землетрясением, с тайфуном, с пожарами! Ни тебе пограничного контроля, ничего! Одна проблема: как добраться до берега. Пирс развалился, и все равно около трапа караул. Но я нашел способ. Только нужна твоя помощь. Как, Ронин, пособишь?
Не дожидаясь ответа, придвинулся ближе.
– К корме пришвартована шлюпка с веслами. Она на цепи, и замок наверху. Я спущусь, а ты с палубы отомкнешь. Лады?
Маса пожал плечами – почему нет? Но тут опять постучали – с другой стороны, из коридора.
Открыл – в дверь проскользнула Наоми Тревор. Не обращая внимания на постороннего человека (а может быть, и не разглядев его в темноте), дрожащим голосом зашептала:
– Мистер Сибата! Дорогой Маса! Только вы можете мне помочь! Блафф в огне!
– Сочувствую. У вас ведь там дом.
– Что дом! Там моя Глэдис! Перепуганная, в опасности, а может быть, уже… – Миссис Тревор всхлипнула. – Я умоляла капитана дать мне лодку – отказал. Просила просто высадить на берег – не хочет и слушать! Тогда я вспомнила о вас, о вашей профессии. Вы опытный человек, наверняка бывали в тысяче переделок. Доставьте меня к дочери!
– Пока это никак невозможно, – участливо сказал Маса. – Может быть, утром.
– Возможно, очень даже возможно, – подал голос Момотаро. По-английски он говорил паршиво, но понятно. – У меня есть лодка. Но это будет стоить денег.
Повернувшись к незнакомцу и не задавая никаких вопросов, миссис Тревор воскликнула:
– Я заплачу сколько угодно!
– [86], – назвал несусветную сумму защитник голодных и рабов. – Деньги вперед.
– Имей совесть, скотина! – обругал его по-русски Маса.
– Твоя зазноба – буржуйка. Пускай платит, – хладнокровно парировал Момотаро. – Деньги мне пригодятся для дела.
Взволнованная мать торговаться и не подумала – только поставила условие, что расплатится на берегу. Такую женщину не надуешь, даже когда она в отчаянии.
– Мистер Сибата, я в каюту за деньгами. И переоденусь для опасного путешествия. Постучитесь через пять минут.
Согласен он или нет, даже не спросила. Об оплате речи тоже не шло. Насколько же выгоднее быть хамом и вымогателем, чем джентльменом!
Момотаро полез обратно в окно. Договорились встретиться на корме нижней палубы.
Через пожар и развалины удобней пробираться в облегающей одежде и в башмаках, поэтому Маса тоже переоделся в европейское.
Помочь женщине в беде – это благородно, думал он. Особенно красивой женщине, которая может вознаградить благородство любовью. Так что еще неизвестно, кто умнее – хам или джентльмен. Если мир разрушен, то пятьсот иен превратились в никчемные бумажки, а любовь – валюта, которая никогда не обесценится.
Немного повеселев, благородный ронин отправился за благородной дамой.
Миссис Тревор ждала его в дверях каюты, наряженная в черное коктейльное платье и белые теннисные туфли, с театральной сумочкой через плечо. Голову она повязала шелковой шалью. Этот наряд Маса в целом одобрил, лишь выразив сомнение по поводу узкого платья – как в таком перелезать через борт? Однако Наоми продемонстрировала сбоку вырез до середины бедра и то, как высоко она может задрать колено. Колено ронину очень понравилось. Оно было полное и круглое.
– Только одно условие, – нежно сказал он. – Вы будете беспрекословно исполнять все мои указания. Слышите – все?
Миссис Тревор кротко кивнула. Воображать, как она будет исполнять все Масины указания, было приятно.
Бесшумно, по ковровой дорожке, они двинулись вдоль коридора, но одна из дверей вдруг приоткрылась. Оттуда высунулась мисс Турнип, схватила Наоми за рукав.
– Остановитесь, несчастная! Зачем идете вы за этим дьяволом? Чтобы предаться с ним разврату? Как вы можете в час Божьего гнева помышлять о грехе?
– Тссс. – Наоми приложила палец к губам. – Мне нужно домой, к дочери. Без надежного спутника я на берег не попаду и через горящий город не проберусь. У нас лодка.
– Лодка? – Дьяконисса тоже перешла на шепот. – Тогда возьмите меня с собой. Мое место там, где плач и скрежет зубовный.
– Лодка совсем маленькая. Мест нету, – буркнул Маса. Не хватало ему еще этой ядовитой сколопендры.
Он даже не представлял себе, до какой степени ядовитой.
– Не возьмете – подниму крик, – пообещала святая женщина. – И вас посадят под арест за нарушение капитанского приказа.
Делать нечего, пришлось взять.
Берег был ярко-алый, освещенный пожарами, которые пылали повсюду. По черной воде бухты метались переливчатые сполохи. Пожалуй, это было красиво. Но дьяконисса придерживалась иного мнения.
– Мерзость и содрогание! Геенна огненная! – пробормотала она, крестясь. – Укрепи, Боже, мою душу.
Первым по цепи соскользнул Момотаро. Потом Маса на спасательном круге с веревкой спустил в лодку женщин, причем вторую, мисс Турнип, очень хотелось уронить.
Открыл замок, скинул цепь вниз. Разделся догола, чтоб не замочить одежду. Свернул ее, бросил Кибальчичу. Спрыгнул.
Вода была маслянистая, теплая, пахла гарью.
Когда Маса забирался в лодку, дамы отвернулись, но миссис Тревор, несмотря на боль материнского сердца, будто поправляя прическу, разок покосилась назад. Очень хорошо. Фигура у Масы была крепкая, а в тусклом освещении, когда не видно морщин (совсем маленьких, но все-таки) выглядела просто великолепно – как у циркового борца. Татуировку и прочее он скромно прикрывал ладонью, потому что всему свое место и время.
Сели с Кибальчичем на весла, на «три-четыре» взмахнули ими.
По черной воде до красного берега предстояло проплыть с полкилометра. Женщины были на носу, молились на коленях (понятно, по чьей инициативе). Мужчины тихо переговаривались по-русски.
– Какое ужасное несчастье, – вздохнул Маса, оглядываясь через плечо на гибнущую родину.
– Мещанский взгляд, – ответил Момотаро. – На самом деле для Японии это огромная удача. Революция так или иначе все разрушила бы, но когда этим занимаются люди, рождается много вражды и ненависти, а из-за этого – сам видел – начинается гражданская война. Тут же никто ни в чем не виноват. Всю грязную работу исполнила природа! И с какой быстротой, всего за несколько часов! Старый мир разрушен, половина дела сделана. Теперь только остается построить на развалинах новый.
– И как ты собираешься его строить?
– Я же Момотаро, – оскалил зубы строитель нового мира. – Ты что, сказку забыл? Плыву на остров Онигасима. Соберу там команду: Пса, Обезьяну, Фазана. Изгоним демонов и заживем припеваючи.
Хищная радость Кибальчича была Масе неприятна. Ишь, стервятник, весь трясется от возбуждения. Всем горе, а ему праздник.
Очень храбрые люди бывают трех сортов. К первому относятся тупоумцы, бесстрашные из-за полного отсутствия фантазии – они просто не задумываются о последствиях. Еще есть люди (к ним относил себя и Маса), кто появился на свет вовсе без чувства страха – как рождаются дальтониками, не видящими какой-то из цветов спектра. Но самые отчаянные – те, кто боится, но приходит от страха в экстаз и специально стремится попадать в опасные ситуации. Кибальчич несомненно был из последней категории, потому и рвался в пылающий город, как мотылек на огонь.
Расставание у них вышло несердечным.
Уже на берегу, суя за пазуху конверт с деньгами, Момотаро сказал:
– Пошли ты к черту свое бабьё. Айда со мной. Я к тебе пригляделся, Ронин. Ты мужик крепкий. Давай ко мне в команду: Псом или Фазаном, Обезьяной – кем захочешь. Прогоним с острова бесов!
– Сам ты пес и обезьяна, – обиделся Маса. – Ищи себе других помощников. Я не хочу прогонять одних бесов, чтоб вместо них уселись другие.
– Ну и черт с тобой. Обойдусь. Тюрьма Нэгиси, поди, тоже развалилась. Найду помощников там.
Даже не кивнул на прощанье. Сплюнул и был таков – исчез в черной тени. Все-таки революционеры очень неприятные люди.
До Блаффа нужно было идти влево по набережной Банд. О, как отчетливо и ясно видел ее Маса в ностальгических снах!
Но от набережной остались только тлеющие головешки.
У номера шестого, где располагалось российское консульство, репатриант горестно вздохнул – там чернели лишь обгорелые деревья. А вот здесь, где груда обугленных кирпичей с торчащими балками, когда-то находился «[87], самый почтенный из иокогамских борделей. Бывал в нем и юный Масахиро Сибата – не за деньги, а по дружбе с одним погибшим, но милым созданьем (это цитата из стихотворения великого русского поэта Пушкина).
Перед развалинами «Гранд-отеля», жить в котором Масе уже никогда не придется, ночным путникам была явлена жуткая икебана. Среди щебня и осколков стекла на тротуаре белела ванна, в которой сидела мертвая дама, голая и очень красивая. Должно быть, первым ударом землетрясения ее выкинуло наружу с верхнего этажа.
Наоми жалостливо вскрикнула. Ханжа мисс Турнип подобрала с асфальта штору и придала покойнице пристойный вид.
Они держались поближе к воде, где меньше чувствовался жар. Ни одной живой души им пока не встретилось. Только трупы.
Впереди что-то потрескивало. Это лежал на боку трамвай. Змеящийся по земле провод брызгал искрами. Вокруг темнели неподвижные тела.
– Куда? – еле ухватил за воротник Маса рванувшуюся туда дьякониссу.
– Может быть, кто-то жив!
– Туда нельзя – ток.
Наоми тянула его в другую сторону, где за речкой Оокагава темнела махина Блаффа.
– Скорее! Мы уже близко!
– Близко-то близко… – покачал головой Маса.
На тот берег было не перебраться, железный мост рухнул.
– Идем к следующему мосту.
Они повернули направо, на [88]. Пришлось сделать зигзаг, возвращаться в сторону центра, потому что к северу весь квартал полыхал огнем. Должно быть, занялось недавно – слышались крики, метались тени. По крайней мере хоть кто-то в Иокогаме был еще жив.
Вскоре людей стало много. Даже слишком много. Они выбегали из переулков, в которые ворвался пожар. Кто-то несся не разбирая дороги, с выпученными глазами, всё бросив. Кто-то толкал тележку с наскоро нагруженным добром. Многие прикрывали головы подушками или ватными одеялами. Сначала Маса не понял, зачем, но потом увидел, как лопаются стекла в занявшемся доме и вниз сыплются острые осколки.
Ночной ветер набирал силу, перекидывая языки пламени с одной крыши на другую. Казалось, идет соревнование – кто кого обгонит: беглецы пожар или пожар беглецов.
– Быстрей! Быстрей! – закричал Маса, хватая спутниц за руки.
Огонь подбирался и с другой стороны. Сейчас замкнет периметр – и не выберешься.
Кто-то споткнулся, упал. Прямо по лежащему проехала коляска со скарбом. На углу маленькой улочки возникло видение, которое – Маса сразу понял – будет преследовать его до конца жизни. Мимо с воплем пробежала женщина с высокой прической, которая пылала, словно костер. Кинулся помочь, но не догнал. Несчастная, должно быть, ослепнув от ужаса и боли, метнулась в горящий переулок и скрылась за стеной огня.
– Мистер Сибата! Куда вы? Вернитесь! – звали сзади.
Он хотел вернуться, но замер. Пожилой мужчина тянул за руки из-под рухнувшей балки придавленную старуху. Оба громко кричали. Он – жалобно, она – злобно.
– Я тебя не брошу! – плакал мужчина.
Старуха орала:
– Беги, кретин, беги! Только сначала возьми кирпич и проломи мне голову. Я не хочу сгореть живьем! Убей меня, сволочь! Всю жизнь был тряпкой, так хоть напоследок поступи как мужчина! Давай!
Маса подбежал, навалился всем телом на деревянную опору, но та не сдвинулась ни на дюйм.
Рядом бухнулась на колени мисс Турнип:
– Молись, несчастная! Будем молиться вместе! – призывала она на ломаном японском.
Придавленная вопила – требовала, чтобы ее прикончили. Муж рыдал. Дьяконисса молилась. Миссис Тревор сзади хватала за плечи, умоляла не задерживаться. Это и есть настоящий ад: безысходный кошмар и кошмарная безысходность, подумал Маса.
Просить бегущих людей о помощи было бесполезно – тут каждый спасался как мог.
– Господин, убейте меня вы. Очень вас прошу. Этот слизняк не сможет, – вдруг спокойно, вежливо сказала старуха, как-то умудрившись лежа изобразить поклон. – Вы ведь не хотите, чтобы я умерла медленной страшной смертью?
Нет, настоящий ад – вот это: когда в кошмарную безысходность попадает не кто-то другой, а лично ты, – содрогнулся Маса. Выполнить страшную просьбу и отказать было одинаково немыслимо.
– Господь милосердный, спаси нас и помилуй! – вздымала руки к черному небу мисс Турнип.
Улица уже опустела. Толпа умчалась в поисках спасения туда, где ночь еще оставалась черной. На мостовой валялись деревянные сандалии, шляпы, брошеные вещи. Пожар надвигался с трех сторон.
Маса потрогал в кармане «браунинг», который взял с собой на всякий случай – но уж точно не на такой.
– Господи, яви чудо! Пошли Своих белых ангелов-спасителей! – надрывалась богомолица.
И вдруг – Маса не поверил глазам – в зазоре между двумя ближайшими домами, один из которых уже вспыхнул, а второй еще нет, возникло несколько фигур. Нет, не белых – черных, но то явно были спасители. Они начали очень ловко и быстро крушить баграми и кирками еще не загоревшееся строение – чтобы замедлить распространение огня. Командовал ими кто-то высокий, с белой повязкой на голове – будто с нимбом.
Пожарные, это пожарные! Хоть кто-то в этом распавшемся мире думает не только о себе!
– Сюда! Пожалуйста сюда! – закричал Маса.
Человек в повязке оглянулся, подошел. Вблизи стало видно, что это не пожарный. За поясом торчал танто в ножнах из кожи ската, на белой повязке алел солнечный круг и было написано »[89]. Раз «гуми» и короткий меч за поясом – это якудза. Маса припомнил, что во времена его юности в Токио был клан с названием «Хиномару». Должно быть, расширил территорию или вообще перебрался в Иокогаму.
Предводитель был молод, статен, густобров и горбонос – такому впору играть героев на сцене Кабуки. Он присел на корточки, попробовал сдвинуть обломок стены, покачал головой, крикнул своим:
– Эй, все сюда!
Подбежали остальные. Вожак скинул куртку с той же надписью, что на повязке. Тело у него было поджарое, мускулистое, всё в затейливых разноцветных татуировках. Самая большая – усатый единорог Кирин, поборник справедливости и враг всяческой неправды.
