Читать онлайн Альбигойцы. Книга II бесплатно
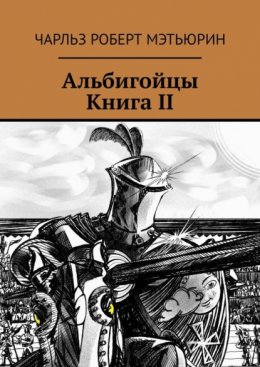
Автор произведения (1824) Чарльз Роберт Мэтьюрин
Художник. Автор единственного портрета Чарльза Роберта Мэтьюрина, на странице 9. (1813) Джеймс Генри Брокас
Адаптация перевода II книги "Альбигойцев" за 1835 год (2022) Артур Коури
Художник. Иллюстрации на стр.: 34, 44, 58, 72; при оформлении обложки использован фрагмент илл. со стр. 44 (2022) Павел Перовский
Художница. Иллюстрация на стр. 97 Александра Лагуткина
Серия: “К западу от октября”
© Чарльз Роберт Мэтьюрин, 2023
ISBN 978-5-0060-4537-8 (т. 2)
ISBN 978-5-0059-1605-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Чарльз Роберт Мэтьюрин – Альбигойцы II
Альбигойцы II
Роман-эпопея
THE ALBIGENSES,
А Romance
BY THE AUTOR OF "BERTRAM; OR THE CASTLE OF ST. ALDOBRAND", A TREDEGY "WOMAN; OR POUT ET CONTRE", &c.
____________
"Sir, betake thee to thy faith,
For seventeen poniards are at thy bosom".
Shakspeare`s. All`s Well that Ends Well.
____________
IN SIX VOLUMES
VOL. II
____________
LONDON:
PRINTED FOR HURST, ROBINSON, AND CO.
90, CHEAPSIDK, AND 8, PALL-MALL;
AND A. CONSTABLE AND CO. EDINBURG.
1824
*
TO
MRS. SMITH
FITEWILLIAM STREET, DUBLIN
THIS WORK
IS INSCRIBED, BY
THE AUTHOR
`
БИБЛИОТЕКА
РОМАНОВ
и
ИСТОРИЧЕСКИХ
ЗАПИСОК
издаваемая
книгопродавцом Ф. РОТГАНОМ,
на
1835 год.
*
САНКТПЕТЕРБУРГ
1835
АЛЬБИГОЙЦЫ II.
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН
XII СТОЛЕТИЯ
сочинение
МЭТЬЮРИНА
перевод с французского
*
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
*
САНКТПЕТЕРБУРГ
типография Н. Греча
1835
ПЕЧАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
с тем, чтобы по напечатанию предоставлены были в Цензурный Комитет три экземпляра.
Санктпетербург, 3 августа, 1835.
Цензор А. Никитенко.
АЛЬБИГОЙЦЫ II
ГЛАВА I (X)
"Иные клятвы я готов произнести сейчас же,
И не боюсь тех вознесённых женщин,
Их выдержу… Я
Самый стойкий".
Джон Саклинг1
―
На следующий день, по выслушанию литургии в церкви замка, Крестоносцы собрались для совещания в огромной зале. Главное место занимал сам Барон Куртенайский, старавшийся приучить себя смотреть на Паладура. Совещание длилось долго и с большим жаром. Не сомневались, что разбитые и рассеянные Альбиогойцы были ещё опасны. Хотя отдельная часть их и не имела успеха в намерении пробиться в Аррагонию, но остатки её легко могли быть подкреплены еретиками, скитавшимся в горах, или населявшими Лангедокскую провинцию, и поражение слабого, почти безоружного передового отряда Альбигойцев, могло служить сигналом к восстанию для обитателей самый населённой и обработанной части Франции.
Мнение Аббата Нуармутьерского и большего числа рыцарей состояло в том, чтобы разразить одним ударом, без всякого милосердия и сострадания, всех еретиков до последнего. Успех такого предприятия основывали они на слабости противников, приведённых в ужас последнею схваткою, в которой пали храбрейшие из них. Другие члены совета предлагали подождать конца распри, восставшей между Филиппом и Иоанном, Королём Английским; иные советовали узнать прежде, чем закончились сношения Графа Тулузкого с Папой; остальные же говорили, что ничего не следовало бы делать до прибытия Графа де Монтфорта, которого ждали со дня на день со всеми силами. Поддерживающие это последнее мнение предлагали его не сколько по убеждению рассудка, сколько из опасения оскорбить могущественного Монтфорта, любимца Папы, который был соперником своего Государя и избранным вождём Церковных воинств.
В продолжение совещания Барон Куртенайский попеременно переходил от страха к беспокойству: то боялся он, что его предоставят собственной защите, то пугался того, что ему придётся содержать Крестоносцев долгое время в своём замке. Наконец раздался звук рога; вошедший гонец, преклоняя колено, подал Епископу Тулузкому письма из Рима, и Прелат отошел с ними к окну.
По прочтении писем, Епископ сделался безмолвным, погрузился в размышления, отвечал только кивками на все вопросы и что-то чертил неосознанно на полу концом своего жезла.
Наконец он был выведен из задумчивости упрёками вождей, которые требовали от него мнения и дивились равнодушию его к пользам Церкви. Аббат Нуармутьерский кричал громче прочих; он твердил беспрестанно, что должен истребить всех одним ударом, non ci, sed saepe, cedanto2. Наконец Епископ, будучи принуждённым прервать молчание, предложил отстрочить до времени всякое предприятия. Ясно видно было, как дорого стоило объявить ему подобное мнение, как страдала его гордость. Однако же он ни на минуту не уронил своего достоинства, и высказал все благовидные предлоги для продолжения своего мнения.
Он объявил, что опасно приступать к чему-либо, пока согласие Папы не будет объявлено Легатом, который был на пути во Францию, и как слышно, готов уступить настоянием безызвестного отшельника, называющегося Монахом Монткальмом, по мнению которого, убеждения могут гораздо вернее всякого оружия обратить еретиков на путь истинный. И так, уступая воле Св. Отца, присовокупил Епископ, мы получим его благословение, в то же время избегая неприятности нанести хотя тень оскорбления защитнику Церкви – блистательному Монтфорту, который верно досадовал бы похищение у него славы истреблять еретиков, на что он имеет столько права. Кроме того, оставаясь здесь, мы избавим Барона Куртенайского от страха быть осаждённому еретиками, а дня через три рог часового с высоты башни возвестит нам и прибытие Симона де Монтфорта с воинством.
Слова эти возбудили жесточайший ропот, исторглись у Епископа против воли, ибо каждому был известен воинственный, честолюбивый и надменный характер Прелата. Одни кричали об измене, другие об обмане и бесчестии, остальные, досадуя на нерешительность Римского Двора, клялись не обнажать впредь меча, если для открытия действий должно будет ждать повелений Рима.
Смятение возросло до высочайшей степени, как вдруг звук рога вторично раздался. Вслед за тем вошел всадник, прискакавший с вестью о прибытии во Францию Графа Раймонда Тулузкого, намерения которого ещё не были никому известны. Эта новость произвела на всех одинаковое действие. Не смотря на нерешительный характер Раймонда, все опасались его присутствия, неистощимых способов и влияния на народ, питавших к нему любовь и привязанность, независимо от его соотношений я Папою. К тому присоединился ещё и суеверный страх, следствие распространившейся молвы о том, что Раймонд Тулузкий, как еретик, сносился с адскими духами и занимался тайным, запрещённым искусством. Не удивительно, что после того самые неустрашимые члены собрания сделались безгласны, те, которые громче прочих кричали о необходимости всеобщего истребления еретиков, согласились наконец с Епископом отложить все приготовления до узнания воли Легата.
В продолжение этого времени Паладур, припоминая о встрече с незнакомцем в дикой пустоши, полагал вероятным, что виделся с самим Раймондом, хотя встреча та происходила при стечении странных, неизъяснимых обстоятельств, представлявшихся ему сновидением, в котором не принимал никакого участия, поймал первую спокойную минуту, чтобы приказать отворить двери в пиршественную залу. Сладкий трепет пробежал по членам Паладура. Сенеталь вышел вперёд с белою тростью в руке, пажи и оруженосцы заняли места свои.
Все вышли в парадную залу. Изабэлла явилась туда со всем блеском красоты и прелестью невинности. Осанка её была так благородна, приветствия так ласковы, улыбка столь привлекательна, что все рыцари сознали могущество её прелестей, и готовы были преклонить пред нею колена.
Паладур стал у самого входа в залу, с намерением заметить впечатление, производимое присутствием его на Барона, и прочитать тайну участи свой в каком-нибудь его взоре, слове или движении. Вскоре отворились двери, и пажи, с богато вышитыми подушками в руках, вошли в залу с криком: Посторонитесь! Дайте место Барону Куртенайскому! Сей последний без сомнения вооружился при этом случаи всем мужеством своим; ибо проходя мимо Паладура, который прямо глядел на него, он сделал рукою приветствие рыцарю, стараясь выразить доброжелательство; но тайная злоба была видна в его улыбке.
Паладур прогнал чёрные думы, беспрерывно его занимавшие, и сделал несколько шагов к Изабэлле; но будучи ослеплён её блеском, окружающим красавицу, оробел и вернулся обратно с замешательством. Движение это не укрылось от Сира Эймара, и он со смехом напомнил снова Паладуру об осторожности.
– Я не расположен теперь к шуткам, сказал Кровавого Креста с задумчивостью, в которой заметна была зарождавшееся ревность. Но скажи мне, продолжал он, кто эти рыцари, увивающиеся вокруг Изабэллы? Мне кажется, я уже видел их когда-то.
– Вот те, что впереди прочих, отвечал Эймар, называются Сир Эццелин де Вереек и Сир Сэмонвиль, – это самые ревностные поклонники Изабэллы. Спроси о них герольда, и он ответит, что это рыцари знаменитого происхождения, люди храбрые и богатые; а я сказал бы, что это глупцы и глупцы-то образованные. У каждого из них есть свой конёк: один, как истинный герой уборных, набит тщеславием и высокими мыслями о самом себе; другой, всё блаженство находит в спорах, и готов спорить даже с собственной тенью.
– Однако же я был свидетелем, как они оба отличились при осаде замка Андели, и ещё вчера храбро кидались в самый пыл сражения. И так, вот мои соперники: один хвастун, другой дурак.
– Но кой чёрт, что за охота тебе терять время в пустых разговорах, не лучше ли пойти к Изабэлле? Она верно не упадёт в обморок от твоего взгляда, как её дядюшка. – Но, вот взгляните на нынешних молодых людей; вы не найдёте в них ни теплоты, ни крови, ни сердца. Будь ты моим сыном, я бы объявил тебя незаконнорождённым, хотя мать твоя была бы самая целомудренная женщина во Франции. Ступай же подойди к красавице, трусишка, и поцелуй её беленькую руку.
– Я не имею охоты соперничать с дураком и хвастуном!
– Ну, так! Клянусь небом! Ты смешнее Амираля, который не хотел войти в замок, потому только, что будучи пажом, сорился с его владетелем. Да подойди же, говорю как странны и упрямы люди нынешнего времени!
– Не докучай мне, сказал Паладур уныло, не ты ли говорил, что эти рыцари и знатны и богаты, так мне ли бедному, безродному быть их соперником?
– Тем лучше, женщина всё дополнит воображением. Ступай же, говорю, я тебе, она глядит сюда… Смотри: она уронит платок или опахало, не ты, а другой их подымит, и от него примут холодно и рассеяно. Но вот, она снова смотрит на нас, а ты так и не подходишь. Ну, не странно ли видеть молодых людей, которые на поле сражения не дрогнут и от тысячи врагов, а трусят женщины!
Паладур, подстрекаемый старым рыцарем, подошел наконец к Изабэлле; но она, будучи обижена мнимою его холодностью, показала вид, будто не замечает рыцаря, и продолжала слушать Сира Эццелина де Верека который, по обычаю того времени, обильно разливал в речах своих цветы риторики и аллегории. Утомившись наконец-то его красноречием, Изабэлла повернулась к Паладуру. Рыцарь Кровавого Креста, сказала она ему, какой язык вы употребляете, изъясняя даме чувства?
Женщины, окружавшие Изабэллу, обменялись улыбкою, и опахало Маргариты получило ускорительное движение.
– Не знаю ничего красноречивее языка взоров, ответил Паладур прерывающимся голосом; если он будет непонятен даме, то я не сумею найти выражений более красноречивых.
– Но легко может статься, что дама не поймёт подобного разговора, тогда что будете вы делать?
– Невозможно, отвечал Паладур с волнением, чтобы глаза, созданные для выражения – внушения любви, не смогли истолковать язык её. Ах, хоть взоры любви хоть однажды на меня обратились, но клянусь вам, им не нужно было прибегать к объяснению; ещё никогда не видела я очей, исполненных подобного блеска и прелести.
– Особа, которой принадлежали те взоры, верно была прекрасна, сказала Изабэлла задумчиво. Вероятно из любви в ней вы совершили тот подвиг, который поставил вас на первую степень Христианского рыцарства.
– Я ещё не знал тогда, но с той минуты, как увидел прелестную, готов на всё отважиться, всё совершить…, не могу только открыть ей любовь мою.
– Как же, рыцарь, дама поймёт ваши чувства? Спросила Изабэлла в сильном волнении и отвращая взоры.
– Если глубокое почтение к ней, и трепет, проникающий меня в её присутствии, не выскажут ей чувств моих, то я несчастнейший из влюблённых, а она самая нечувствительная женщина.
– Ах нет! Она не бесчувственна. Прошептала Изабэлла, спуская покрывало. Паладур не мог расслышать слов этих, которые сделали бы его счастливым. В ту же минуту раздался по замку звук рогов, возвещающих прибытие важной особы.
Вскоре опустили подъёмный мост, и замок огласился бряцанием доспехов, топотом коней и восклицаниями многочисленной толпы, со всех сторон кричащей: Да здравствует Симон де Монтфорт! За Бога и Церковь!
Пажи настежь растворили двери в приёмную залу; почётные воины, находившееся в замке, стали на место исполнение установленной обычаем церемонии; гости встали, и Барон Куртенайский поднеся к губам чашу, чтобы приветствовать высокого гостя. Наконец, Граф Монтфортский вошел в залу, окруженный многочисленной и блестящей свитой. Грубо и надменно отвечал он на учтивость, с которой все готовились принять его, как главу защитников Церкви. Будучи полностью закован в доспех, двигался он по зале подобно железной башне, приведённой в движение каким-то внутренним механизмом, и взглядывал на присутствующих сквозь решетку забрала, как бы находясь среди неприятелей. Затем, не сказав ни слова владетелю замка, не поклонившись даже присутствующей даме, он уселся надменно в кресла, и движением руки приказал своим оруженосцем снять с него шлем и латы, но будучи недовольным их медлительностью, сам сбросил с себя доспех, и тогда все увидели исполинский стан де Монтфорта, грубую и свирепую его физиономию. Первый взгляд был устремлён им на Изабэллу, и какая-то дикая, страшная улыбка выразила его удивление; беглым взором он окинул после неё присутствующих.
– Благородный владетель Монтфортский, приветствую тебя! Сказал хозяин, поднеся к губам чашу.
– Я буду немедленно отвечать тебе Барон; но прежде объясни мне, что за люди сидят за столом твоим. Клянусь честью, эта звезда красоты меня почти ослепила! За твоё здоровье, Барон! А! Достопочтейнейший Епископ Тулузкий, приветствую тебя, и тебя также, благочестивый Аббат Нуармутьерский.
– Знаменитый поборник Церкви, сказал Епископ, благословляю тебя её именем, как благороднейшую её подругу.
Граф почтительно ему поклонился, а затем, бросив диким взглядом вокруг себя, сказал с презрительною нотою: кто же таковы прочие твои гости, Барон? По их изысканным нарядам я заключаю, что то менестрели и комедианты. Какого же рода потеху они нам готовят? Прикажи начинать; пусть развеселят нас.
Напрасно Епископ дёргал Монтфорта за плащ. Барон Куртенайский побледнел от гнева и ужаса, когда увидел, когда увидел, что чело Паладура побагровело, а Сэмонвиль стремительно зажал в руке кинжал свой, и даже Эццелин поспешно оставил подушку, на которой сидел у ног Изабэллы.
– Граф Монтфортский! Отвечал Барон, ты странным образом обманываешься, оскорбляя тем самым меня и гостей моих. Здесь видишь ты достойнейших сподвижников воинства Крестоносцев. Храбрые рыцари, прошу вас, объясните это Графу де Монтфорту; быть может некоторые из вас были с ним вместе при осаде Андели, в битве Бувинской, или в других знаменитых сражениях.
– Благородный Барон! Отвечал Паладур, если дела не говорят в мою пользу, то не провозглашать свои заслуги.
– Да о тебе я точно слышал, сказал де Монтфорт, обратив на Паладура испытывающий взгляд; ты получил шпоры за то, что дал крещение еретику, которого гораздо было бы полезнее бросить в пламя.
– Король Филипп, твой и мой повелитель, судил иначе, украшая меня благородным званием рыцаря, и права свои я поддержу против всякого, кто осмелится утверждать, что Король даровал их человеку недостойному, поддержу не столько из собственного самолюбия, сколько для оправдания моего Государя.
– Помилуй Бог, вскричал де Монтфорт с грубым хохотом. Да к нему чрезвычайно пристало бы завести шумок с пажами в уборной красавицы. Не сердись, храбрый юноша, успокойся! Но кто же таковы прочие весельчаки, которым по-видимому, помогал украшаться портной, а не оружейных дел мастер? Прибавил Граф, бросая презрительные взгляды на Эццелина де Верака и Сэмонвиля.
Смущённый владетель замка спешил объяснить Монтфорту достоинства и имена сих рыцарей, которые в предложение всего времени дрожали от гнева и бешенства.
– Ах, да и ты здесь, старик Эймар! Воскликнул Граф. Чёрт возьми, я ужасно провинился, не заметив тебя среди безбородых героев и всей этой мишуры. Ты, кажется, решился вечно любезничать с дамами. Так послушай совета: обратись с предложеньем к дуэнье прекрасной Баронессы; быть может, быть может она и согласиться принять твои клятвы на кончит своего туфля. Но что всё это значит? Продолжал он, посматривая вокруг с презрением; неужели меня окружают Крестоносцы, рыцари, знаменитые рождением, или мужеством, как говорит наш хозяин, достойный ценитель храбрости? Пусть так, а признаюсь, я принял их за толпу трубадуров. Однако же пировать или драться я сюда призван? Вождь Церковных воинств ожидал не такого приёма в этом замок; он надеялся вступить сюда при звуке оружия, а здесь, кажется, и не думают о битвах. Разве ни одного Альбигойца не осталось в Лангедоке, что я вижу Крестоносцев, спокойно пирующих? Барон! Приближаясь к твоему замку, я думал, что рвы его наполнены кровью врагов Божьих, а зубцы унизаны головами еретиков, и признаюсь, это было не лучшим их украшением. Что же нахожу здесь? Толпу людей, которые посвятили себя роскошным обедам, пышным праздникам, маскарадам; клянусь честью, Папа ужасно обманывается в доверенности к подобным Крестоносцам!
– Ты заблуждаешься, безрассудный! Сказал Епископ Тулузкий таким голосом, который наложил молчание на свирепого вождя; ты видишь вокруг себя людей, посвятивших душу и тело Св. Церкви, истребляя врагов её. Не смотря на то, что воины эти украсили себя шелковыми нарядами, их головы и плечи привыкли выносить бремя стальной одежды. Впрочем, благородный Монтфорт, прибавил тише Епископ, руки наши уже несколько времени связаны. Делила Ватиканская оковала могущественного человека. Ждём новых повелений Легата, или лучше сказать, его подруги, которая родилась в Лангедоке, и от того почувствовала безумное сострадание в Альбигойцам. К тому же умом Легата овладел один монах, называющейся Отцом Монткальмом, истинный отшельник, пустынник, столпник, ну, назовите его как угодно. Этот монах говорит более проповедей, чем все Доминиканцы вместе, творит чудеса и такие вещи, что я не намерен с ним поссориться. Легат употребил его на заключение с Альбигойцами перемирья, только ненадолго, понимаешь. И так, зная теперь все обстоятельства, сделай одолжение говори умереннее и перестать мешать общему веселью.
– Ладно! Сказал де Монтфорт наконец, хотя и с трудом, словами Епископа. Так я могу теперь отложить в сторону оружие, и в ожидании чаши мальвазии3, познакомиться с внутренностями этого пирога!
Изабеэла, будучи оскорблена грубым тоном Графа, и видя, что люди его, не уважая ни пола её, ни достоинств, готовы были сделать примера господина, встала с намерением выйти из залы.
– Останьтесь, останьтесь! Закричал Граф, заметив движения Изабэллы. Неужели хотите вы уйти, не выслушав придворных новостей, не расспросив о причёске Королевы Ингельберги, или о цене драгоценных камней на её поясе? А кажется, для дамы это самый любопытный предмет, особенно в устах такого женского угодника, как я.
– Мы выслушаем вас в другое время, надеясь, что мальвазия не истребит из памяти вашей того, что сказать хотели, отвечала Изабэлла с достоинством оскорблённой женщины.
– Помилуй Бог! Слова мои не терпят отлагательства; я обязан выполнить препоручение моего Государя, громогласно проговорил Монтфорт.
С этими словами он быстро привстал с кресел. Изабэлла, бледная, безгласная, стояла перед ним с робостью, но
благородством.
– Баронесса Куртенайская и Боревуарская! Воскликнул де Монтфорт, я пришел объявить тебя, как питомец Короля Филиппа, что он обещал руку твою владетелю д’Оберваля. Пятьсот рыцарей моих и воинов будут охранять тебя на пути ко Двору Французскому, в ожидании того, приветствую будущую супругу д’Оберваля.
Он подошел к Изабэлле, и хотел взять её за руку, но она с гордостью оттолкнув его, отвечала: – Граф Монтфортский, знайте, Изабэлла Куртенайская не позволит Королю дарить своих любимцев её рукою словно вещью; она хочет быть свободна в выборе супруга.
– Что за надменность! Как питомиц Филиппа, ты должна уступить, а не сопротивляться его воле. Да впрочем, ты и не можешь ей противиться. Я предлагаю тебе супруга благородного, храброго, любимца Государя. – Чего лучшего желать женщине?
– Свободы, той свободы, в которой не отказывают последней крестьянке; почему же хотят отнять её у наследницы Владетельного Дома Куртенайского и Боревуарского?
– Тебе известен закон, или лучше сказать, воля Государя; он властен располагать тобою и твоими обширными владениями; по крайней мере, не иначе как ценою половины твоих сокровищ купишь ты права располагать собою. Истощение казны Королевсокй от войны с еретиками, беспрерывное наблюдение за движениями Короля Английского и многие другие обстоятельства, которых нельзя открыть женщине, вынудили Филиппа избрать тебя наградою одному из своих любимцев.
– Владетель Монтфортский! Воротитесь к Королю, и объясните ему, что он может по желанию лишить меня владений и вассалов, но пусть не надеется покорить своей воле сердце Изабэллы Куртенайской: рука её будет отдано только тому, кого она найдёт достойным; ни чьих советов на этот счёт ей не требуется.
– Что за высокомерие! Такие ли слова должна говорить питомица опекуну своему Государю? Сказал Монтфорт, кусая до крови губы свои от бешенства.
– Назовите лучшие слова мои – словами женщины гонимой, но не слабодушной, которая обращает их к своему притеснению, сказала Изабэлла голосом, прерывался от волнения.
Ропот распространился по зале. Крестоносцы, негодуя на грубость и наглость де Монтфорта, потеряли всё уважение, которое готовые были изъявить ему, как Перу Франции и вождю, избранному Церковью. Барон Куртенайский не мог больше оставаться безгласным.
– Изабэлла, сказал он, подумайте, вы питомица Короля, и в случаи отказа лишитесь всего: и замка и земель и вассалов.
– Я вам объяснил уже Граф де Монтфорт, что Король может лишить меня всего, но я никогда не буду женою его любимца.
Трепещущая, истощённая сильным волнением, Изабэлла опустилась в кресла, и с трудом дышала. Горничные, окружающие Госпожу свою, желали освежить ей дыхание, приподняли покрывало, но она в ту же минуту опустила его снова. Между тем лицо её, выражающее внутреннее волнение, и оттенённое упавшими в беспорядке волосами, исторгало у присутствующих вопль удивления. Сам свирепый де Монтфорт был тронут, по-видимому и сказал в полголоса.
– Клянусь честью, если бы я знал, что Баронесса так худо выслушает эту новость, то просил бы Короля Филиппа послать вместо меня другого посланника. Впрочем, сударыня, прибавил он, как бы стараясь чем-нибудь её утешить, быть может ещё найдётся средство уклониться от повиновения, не жертвуя за то именем. Будь я вашим рыцарем, то с радостью предложил бы копье за вас.
– Благодарю за предложение! Посланный Филиппа едва ли может придать себе более цены в глазах моих; но я готова его выслушать, если он предложит мне честное средство к избавлению.
Граф Монтфорт в смущении, повёртываясь в креслах, сказал: признаться, я плохо знаю язык понятный дамам; но если предложением благородного союза оскорбил вас, то готовый объявить средства к избавлению, как вы говорите; только должен предупредить, что без величайшей опасности нельзя покуситься на это средство.
Уверяют, будто многие из рыцарей, окружавших кресла Изабеллы, услышав слова эти, почувствовали, что быть может объявлении Изабэллы о готовности пожертвовать скорее всем богатством, чем подчинить себе воле Филиппа, охладило пламень их усердия, но его не могло возжечь снова страшное условие избавления Баронессы.
– Когда я оставлял Короля, продолжал Монтфорт, он, шутя, сказал мне: ты верно найдёшь крепость с сильной обороной; но смотри, если станут противиться моей воли, выполни, как следует долг свой. Я отвечал Филиппу в том же тоне: Государь! Ручаюсь головою за успех посольства, будучи твёрдо уверен, что ни один поклонник красавицы Баронессы не вздумает померяться силами со мною. Но если найдётся хоть один рыцарь среди мишурной толпы твоих поклонников, Изабэлла, зови его именем неба. Пусть летит к тебе на помощь; вот вызов к битве. С этими словами он бросил на пол железную перчатку; звуком её падения огласились своды залы, и Барон Куртенайский задрожал на своём стуле.
– Вот ответ мой! Вскричала Изабэлла, бросая свою перчатку, и в это же мгновение Паладур уже держал перчатку Монтфорта, и поклонившись почтительно Изабэлле, объявил, что принимает вызов, если только она удостоит признать его своим защитником.
Живейшее волнение одушевило лицо Изабэллы, когда увидела, кто вызвала защищать её права.
– Храбрый рыцарь, – сказала она, признаю тебя моим защитником; да украсит Бог и Св. Дева ту руку, которая вооружилась на за права угнетённой женщины; да покровительствует тебя дар от железа противника.
В то же время она сняла из себя шарф и повесила на рыцаря. Тысяча голосов раздались по зале, требуя чести защищать Изабэллу.
– Ступайте все! Вскрикнул Граф де Монтфорт, махая руками, которые подобились веткам огромного дуба, колеблемых бурей. Помилуй Бог, я считаю игрушкою сбросить на землю всех этих толковых и бархатных рыцарей; зато они узнают от меня старинные правила турнира. Я буду играть с ними, словно с мячиками; и то не дурно: мне нужно же иметь какое-нибудь упражнение. И так, если завтра двор не покроется лентами и шарфами, то смело можно сказать, что уже нет более истинных мужей во Франции.
– Милости, одной милости у вас прошу, Граф Монтфортский! Вскричала Изабэлла умоляющим голосом, который от внутреннего волнения сделался ещё более трогательным.
– Прошу о том, чтобы поединок был не смертельным, а согласный с правилами турнира. Сохрани Боже, если драгоценная кровь, обречённая на защиту Церкви, прольётся за женщину.
– Если я наперёд отгадал твою просьбу, то едва ли бы на неё согласился. Ей! Закричал Монтфорт с досадою своему пажу, толкая ногою перчатку Изабэллы, подними это и повесь на дворе замка. Кому не пришла ещё охота проститься с жизнью, не смей дотронуться копьём до неё!
– На Бога возлагаю надежду! Произнесла Изабэлла трепещущим голосом, подняв к нему свои взоры.
– А тебя, молокосос, сказал Монтфорт Паладуру, я порядком за хвастовство, и так далеко прогоню от тебя беса тщеславия, что при взгляде на женский шарф ты побледнеешь, как при виде войска, готового к битве.
– Если я буду глух к голосу красоты, или к звукам трубы военной, отвечал Паладур, то пусть смертная бледность покроет лицо моё. Но довольно быть человеком и рыцарем, чтобы стать призыв красоты и славы; да, говорю я, рыцарем, воином испытанным в поле, и человеком, чем ты никогда не был, прибавил он, увидев насмешливую, дикую улыбку на устах Монтфорта.
– Это же слишком много, сказал Сир Эймар; гнев увлекает вас далеко. Если Баронессе угодно будет принять мои услуги, то я вместо себя в сесть быть Маршалом будущего турнира. Пусть Граф Монтфортский выберет другого между присутствующих рыцарями.
Изабэлла с благодарностью приняла предложение старого рыцаря, и встала, с намерением удалиться. Паладур, проводив её до дверей, вышел из залы, почтительно поклонившись владетелю замка и бросив гордый взгляд на Монтфорта.
– Хвастун убрался отсюда, сказал Монтфорт с грубым смехом, потягиваясь в креслах.
– Нужно доказать прежде, что он заслуживает это название, сказал Эймар, который хотя и был ветрен не по летам, но живо чувствовал Благородный порыв Паладура.
– Рыцарь Кровавого Креста – храбрый и верный Крестоносец, прибавил Епископ Тулузкий, очень естественно принимавший участие в людях, одарённых особою силою души, или тела. Клянусь митрою4, Продолжал он, что можно всегда с полною уверенностью искать Паладура в первых рядах воинства.
Ропот послышался в собрании при этих словах, которые как бы уровняли рыцаря-новичка с потомками древнейший фамилий. Бароны старались выказать Епископу гербы свои, свидетельствующие о благородном происхождении и храбрости их предков но Епископ немало не смутился, будучи выше любых предрассудков своего времени, хотя и ниже собственных слабостей; он важным тоном заставил умолкнуть гордость толпы, превозносившие заслуги предков.
– Мужественный рыцари, благородные Пэры, защитники Креста и Церкви! Сказал он, зачем презирать и унижать простого рыцаря? Оглянитесь на насколько веков назад и вы увидите, что самые знатные фамилии произошли от темнейших людей, обязанных возвышению самим себе. Останься он в неизвестности, тогда и вы, быть может, не вышли бы из обыкновенного круга, не имели бы теперь случая пренебрегать личным достоинством. Родоначальники ваших фамилий были в таком же положении, как этот Паладур, и если потомство его заблистает некогда, то оно ему будет обязано славою. Клянусь небом, во сто раз приятнее смотреть на водопад, когда он свергается с крутизны скалы, ослепляя глаза путешественника, чем на тинистый ручей, который лениво влачится по земле, не отражая в себе ясного неба, не удобряя земли сонным, бесполезным течением.
Слова эти заставили умолкнуть каждого, и разговор обратился к предстоящему турниру. Граф Монтфортский остался за чашей вина с Аббатом Нуармутьерским, который, ревностно стараясь осушить её, утопил наконец в ней рассудок. Владетель замка с ловкостью выполнил обязанность хозяина, но мысль его беспрестанно была занята одним предметом: его воображению представлялся бездыханный, окровавленный труп Паладура, изверженного копьём Симона де Монтфорта.
В замке всё показывало приготовление к турниру. Эймар с неутомимой усердием занимался церемониями его. Оруженосцы чистили оружие, шумные голоса воинов мешались со звуками рогов и труб; эхо собственных гор их повторяло. В это время Паладур, уединяясь в своей комнате, ходил по ней в задумчивости. Мечты детства, странные происшествия молодости, плавание по озеру с таинственною незнакомкою, вещие песни Видаля, теперь осуществляясь в его воображение, проходили пред ним в странных, неопределённых образах. По временам сверкал среди их отрадный лик Изабэллы, но исчез мгновенное, и тогда призраки казались странные: так луч месяца прорывается сквозь густые тучи, разгоняет мглу на мгновение, но затем она кажется ещё чернее. Наконец, утомлённый тягостными мыслями, Паладур Бросается в кресла, как вдруг приятный голос произносит его имя. Он вскакивает с удивлением, но без испуга, и видит женщину, закутанную покрывалом.
– Что тебя нужно? Вскричал рыцарь. Говори, что ты: существо земное, или небесное?
– Ни то, ни другое, отвечала незнакомка; но впрочем земное так перемешано в нас с небесами, что величайшие мудрецы ещё не разгадали нашей природы, и мы сами едва ли себя понимаем.
– Ты верно одна из женщин, живущих в замке, сказал рыцарь, приходя в себя. Напрасно же не отнеслась ты вместо меня к какому-нибудь пажу: это было лучше.
– Будь я мужчина, ты дорого заплатил бы слова эти.
– Ради Бога, чего ты хочешь? Зачем вошла ко мне с такою таинственностью и в этот час?
– Чтобы выполнить препоручение Изабэллы.
– Изабэллы! Вскричал Паладур, с сильным волнением. Ах, говори, говори! Прости меня!
– Она просит тебя уклониться от сражения с ужасным, неодолимым Графом Монтфортским, и не полагаться на свою силу и ловкость.
– Стало быть, она не надеется на меня? Уже не кается ли, что вверила руке моей защиту прав своих? Скажи Изабэлле: отказаться от вызова, что Паладур слишком мало ценит жизнь свою, и потерю её считает ничтожной.
– Ты не так меня понял, сказала незнакомка встревоженным голосом; не недостаток доверенности на твоё мужество, или…
– Оставь этот пустой разговор. Изабэлла вверила руке моей защиту прав своих, и я скорее погибну, чем откажусь от её доверенности, которая мне в тысячу раз дороже жизни, но только из собственных уст её.
– Ну, так я приказываю…, сказала незнакомка, и Паладур узнал по звуку голоса, скрыть который она позабыла в эту минуту. От сильного волнения красавицы отдёрнулась часть покрывала, и лицо её открылось. Изабэлла бросилась на руки прислужниц, стоявших за тайными дверями, и скрылась мгновенно.
Паладур долго думал о неожиданном явлении, и чувствовал, что мужество его удвоилось. Нетерпеливо ждал он наступления дня, и едва показалась заря, позвал оруженосца и спешно вооружился.
ГЛАВА II (XI)
"С каких пор мои часы ведут меня к могиле
Я ехал всего два часа".
"Двенадцатая ночь". Шекспир
―
На рассвете дня, в который столько происшествий готовы были совершиться, один монах тихо спускался по излучистым тропинкам с гор, окружающих замок Куртенайский. Путник, казалось, был отягощён летами. Плащ из грубой ткани, подпоясанный верёвкою, покрывал его; ноги были обуты в сандалии. То исчезал он совершенно в густом тумане, облекавшим горы, то вдруг показывался на вершине скалы, откуда осторожным оком измерял глубину пропасти, в которую должно было ему спуститься.
Туман увеличивался, и вскоре в виде океана паров разостлался перед путником. Не видя более дороги, он сел на выдавшейся скале, и опёрся на посох. Вдруг оторвалась от скалы глыба и покатилась с громовым треском в пропасть. Монах озирался с удивлением, любопытством и страхом: таковы чувства, ощущаемые нами при созерцании самых обыкновенных явлений природы, когда они происходят среди глубокого уединения. Не странно ли, сказал он, что здесь, в этих горах, современных миру, когда душа поглощена величием предметов, её окружающих, падение скалы приводит в трепет. Невоодушевленная природы также становится мне враждебна, но по крайней мере ярость её непродолжительна.
Мысль монаха Монткальма перенеслась теперь в собрание Альбигойцев, которых он думал найти охлаждёнными и бесстрастными, но убедился в противном. Прибытие его к ним произвело сначала столь сильное влияние на самых ревностных сектантов, что ему стоило величайших усилий получить доступ к их начальникам. Однако же всем известная правота и невинность его служили ему щитом даже и среди людей, отступившихся от религии, им исповедуемой. Наконец Монткальму было позволено высказать условия, предлагаемые Папским Легатом. Священники Альбигойцев утвердительно возражали посланному, имея полное право не верить праводушию Римского Двора, который не раз выказал пред ними свою несправедливость. Но Монткальм любовью к истине стал ручаться за их безопасность, и наконец, целуя деревянный крест, висевший на четках, призвал Спасителя свидетелем своих намерений.
Это пробудило дух раскола в сердцах еретиков, отвергавших поклонение иконам и кресту. Маттафия, Вованерг, дьяком дьякон Мемфивосей и другие проповедники собрались с проклятиями к благочестивому монаху. Бледен, но спокоен, стоял среди их Монткальм, прижимая крест к губам и груди своей, как вдруг голос, который и теперь ещё, казалось, ему слышится, раздался посреди всеобщего крика, утишив оный мгновенно. То был голос священника Петра.
– Дайте мне его выслушать! Кричал старец. Я не могу видеть мужа доброжелательного, но если истина когда либо исходила из уст смертного, то я слышу её теперь в звуках этого голоса. Дай мне коснуться руки твоей прибавил он с сильным волнением, отыскивая руку монаха. Ты безопасен между нами; мы выслушаем твои предложения.
– Старец, небо да благословит тебя, отвечал Монткальм, растроганный словами дряхлого священника. Пусть глаза твои останутся закрытыми для света, но да поднимется завеса, покрывающая твой рассудок, чтобы ты мог выйти на стезю спасения!
Тогда военачальники и священнослужители Альбигойцев стали оспаривать друг у друга исключительное право сноситься с Крестоносцами и отвечать присланному от них посреднику от лица всего общества. Жаркие прения, возникшие между духовную и военною властями, препятствовали узнать испытание их требований. Каждый из двух партий силились удержать за собою право: первая по воинскому духу имела могущественное влияние над толпою, вторая действовала убеждением, доказывая, что право ходатайства в делах Церкви принадлежат её служителям, а не ученикам.
– О небо! Воскликнул Монткальм, оглушенный шумным прением партий; как ничтожны усилия человечески, как неосновательны надежды! Вы в уединению кельи мечтал я, что Христианство может распространяться по вселенной, а люди будут соединены общими узами любви братской и надеждой на бессмертие, но что же? Не только Католики вооружились против заблудших собратий, но и между вами посеяно уже гибельное несогласие. И вы хвалитесь чистотою своего закона, тесным союзом вашим! Какой ответ понесу тому, кто меня послал к вам? Я принуждён буду сказать ему, что шумные прения сделали вас глухими к голосу вестника мира, и только гром оружия Крестоносцев может принудить вас к ответу.
Упрёк произнёс совсем не то действие, которое ожидал Монткальм. Обе партии соединились против слабого монаха, и самые умеренные из Альбигойцев окружили его с намерением защитить от прочих.
– Я не боюсь за жизнь, отвечал он окружающим его; неужели они умертвят беззащитного стрика. Но если нужна кровь моя, чтобы утолить их ярость, прибавил он, спокойно обращаясь к Петру, то я прошу тебя похоронить со мною крест и чётки. Не надеюсь, чтобы место, на котором погибну, украсилось цветами, или издало благоухание; но желаю единственных товарищей моего шестидесятилетнего отшельничества взять с собою в могилу, если суждено твоим собратьям для меня изрыть её. Не считал моей просьбы внушением суеверия, нет…, то голос признательности и надежды! Этот крест и чётки всегда составляли всё моё богатство; а ты знаешь, прибавил он, с улыбкою мученика, что бедняк и на краю могилы неохотно расстается со своим единственным сокровищем!
– Ты безопасен! Вскричал Пётр, сжимая руку старца. Я дряхл, слеп и немощен, но до тебя не иначе дойдут, как чрез труп мой. В то же время он заслонил собою Монткальма.
Глубокое молчание за тем последовало, и Пётр, чувствуя призыв красноречия, воскликнул: Братья! Завтра же, быть может, вы предстанете пред Судьей Небесным, так позабудьте о раздоре, но покровительствуйте и защищайте этого благородного мужа.
Слова эти произвели ожидаемое действе: толпа отступилась, крикуны умолкли, со всех сторон раздались голоса: Пётр, достойный пастырь наш мы выслушаем посланного; пусть будет он посредником между нами и Крестоносцами; ты же будешь нашим защитником, Моисеем, и говори за нас пред Фараоном.
– Сегодня они называют меня своим Моисеем, сказал Пётр, а вчера хотели растерзать во время спора, когда одни предлагали петь Псалмы Давида, а другие братские гимны.
– Увы! Прибавил Монткальм, в несколько минут я вызвал все их слабости.
– Обвиняй слабость естества человеческого, возразил смиренный пастор, краснее; мы жестоки, вспыльчивы и несправедливы не от влияния ереси, как ты думаешь, а потому, что мы люди.
Монткальм, казалось, соглашался в том с престарелым священником, который был, подобно ему, одарён кротким, ангельским характером. Беседа их, долго прерываемая шумною толпою, скоро кончилась.
– Отнеси наш ответ Крестоносцам, сказал Пётр: слово примирения прилично устам твоим. Скажи, что мы готовые выслушать Католических Священников; я сам буду отвечать им.
Произнося согласие на это свидание, престарелый пастырь, казалось, трепетал невольно. В памяти его было врезано глубоко избиение товарищей, нередко случавшееся вопреки святости договоров, он спросил Монткальма: что же будет нам порукою безопасности, когда мы, безоружные, явимся пред владетелями и рыцарями?
– Чернь имеет ли право требовать поруки от благородных владетелей и храбрых рыцарей? Отвечал Монткальм, не изъятый от влияния предрассудков времени, благоприятствующих дворянину.
