Читать онлайн Древнерусская литература, Жития бесплатно
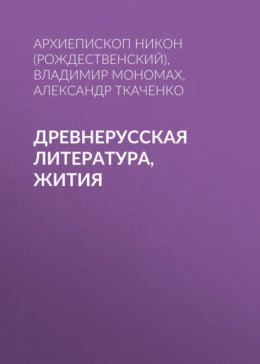
Александр Борисович Ткаченко
Житие преподобного Сергия Радонежского в пересказе для детей
К 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского
Дорогой читатель!
Выражаем Вам глубокую благодарность за то, что Вы приобрели легальную копию электронной книги издательства «Никея». Если же по каким-либо причинам у Вас оказалась пиратская копия книги, то убедительно просим Вас приобрести легальную. Как это сделать – узнайте на нашем сайте www.nikeabooks.ru
Если в электронной книге Вы заметили какие-либо неточности, нечитаемые шрифты и иные серьезные ошибки – пожалуйста, напишите нам на [email protected]
Спасибо!
Допущено к распространению Издательским cоветом Русской Православной Церкви ИС 14-401-0080
Иллюстрации Елены Кабировой
Таланты у людей бывают разные. Кто-то умеет красиво рисовать, кто-то – быстро бегать и высоко прыгать, а у кого-то – хороший музыкальный слух. Одним с легкостью даётся учёба в школе, другим – искусство танца или пения. Но что же делать, когда та же учёба ну никак не идёт в голову, хоть плачь? Неужели только талантливые дети могут учиться хорошо? Конечно же нет! Дело в том, что все таланты людям даёт Бог, каждому – в свою меру. И если ты чувствуешь, что тебе не хватает сил и способностей для чего-то, то всегда можно попросить Бога о помощи – попросить у него талант к этому сложному для тебя делу. Ведь не зря в народе говорят: у Бога – всего много. Это в том смысле, что Богу не жалко для человека ничего. Главное, чтобы пользовался он этим полученным от Бога талантом на благо себе и другим людям. Ну а если у тебя есть сомнения в таком способе – то вот история одного из самых почитаемых русских святых, у которого в детстве тоже никак не получалось… Впрочем, лучше прочесть историю с самого начала и узнать всё по порядку.
Однажды у ростовского боярина Кирилла заблудились жеребята. Разбрелись с луга по окрестным березнякам, ищи-свищи их… Лошади вообще животные умные, на пастбище держатся вместе, далеко от знакомых мест не уходят. А дети – что людские, что лошадиные, известное дело, всё норовят приключений себе найти. Убежали жеребята с луга, не вернулись домой вместе с остальным табуном. Что теперь делать? Неровён час, волки на них нападут, или в болотной трясине жеребята увязнут. А надо сказать, что боярин Кирилл, хоть и был знатным человеком, но нрав имел простой и от крестьянского труда своих детей не ограждал. Другой бы отправил слуг искать потерявшуюся скотину, и делу конец. Кирилл же послал на поиски жеребят своего среднего сына Варфоломея. Знал, что лошадей мальчик любит. Вот пускай и соберёт загулявших коньков. Всё больше проку, чем впустую дома сидеть. Тем более что с учёбой у него ну совсем никак дела не ладились. Хоть плачь, а не даётся грамота парнишке. Да Варфоломей и плакал уже не раз от обиды: ну что ж за беда такая – братья давно уже читают, и счёту обучены, и писать пробуют. Только у него одного эти закорючки в Псалтири никак не хотят складываться в слова. Уж как он старался, сколько бессонных ночей провёл над книгой, все советы учителя исполнял слово в слово. А грамота в голову никак не идёт. Только и остаётся, что поплакать тайком за печкой, чтобы отец не увидел. Но отец ведь тоже не слепой… Жалко ему было сына, видел он, что старается Варфоломей изо всех сил, а не выходит у него с грамотой ничего. Вот и отправил его после очередного урока на луг, за жеребятами. Небось, на просторе грусть быстрей развеется.
Долго бродил Варфоломей по окрестным ложбинам и перелескам.
Звал своих лошадок, искал их следы на влажной земле у ручья. Наконец в роще на краю поля услышал знакомое ржание. Вот они, отцовские жеребята, все четверо. Подняли морды, лакомятся молодыми побегами берёзы. «Ничего, – подумал Варфоломей, – есть у меня для вас лакомство повкуснее». Достал из котомки краюху ржаного хлебца, дал каждому по кусочку. Ну всё. Теперь они до самого дома будут за ним бежать как привязанные, ждать ещё угощения. И отправился Варфоломей с коньками домой.
Вдруг смотрит, на пригорке, под дубом, – старик в монашеском одеянии. Стоит один-одинёшенек и Богу молится. «Не иначе, это святой человек, угодник Божий, – подумал Варфоломей. – Попрошу-ка я его и за меня помолиться, чтоб далась мне наконец книжная грамота». Встал он поодаль и начал ждать. Старец закончил свою молитву, увидал мальчика, подозвал его к себе и спросил, чего ему нужно. Тут Варфоломей вдруг заплакал и стал рассказывать о всех своих горестях. Монах выслушал его, улыбнулся и сказал коротко: «Давай вместе помолимся, чтобы Господь дал тебе книжное разумение». А когда они помолились, достал из-за пазухи коробочку, а из неё вынул кусочек просфоры – церковного хлебца – и дал мальчику:
– Съешь это, в знак милости Божией к тебе.
Варфоломей послушно съел просфору. Монах попрощался и хотел было идти дальше своей дорогой, но Варфоломей так сильно упрашивал его зайти в гости, что тот согласился. Пришли домой. Родители Варфоломея обрадовались, когда увидали у себя на пороге святого странника. Тут же взяли у него благословение и велели слугам накрывать на стол. Но гость не спешил обедать.
– Прежде отведаем пищи духовной, – сказал он Варфоломею и направился с ним в молельную комнату. Такие комнаты в те времена были в доме у каждого боярина и князя. Там старец дал мальчику в руки книгу и велел читать молитвы.
– Но я же не умею, – возразил Варфоломей.
– Не болтай попусту, – улыбнулся старец, – читай.
И благословил его крестным знамением. Варфоломей послушно открыл книгу, и… слова молитвы полились у него без малейшей запинки. Буквы на бумаге наконец стали складываться в слова, а слова – в предложения. Мальчик читал ровно и внятно, не хуже сельского дьякона. Родители, стоя в дверях, не могли поверить своим глазам – неужели это их Варфоломей?
Так, с Божьей помощью, будущий игумен земли Русской выучился чтению.
С того дня у Варфоломея открылись удивительные способности к учёбе. Грамота, которая никак не давалась ему, наконец была освоена. После такого чуда у мальчика появилось желание служить Богу. Ему захотелось уединиться по примеру древних подвижников и стать монахом. Но любовь к отцу и маме удерживала его в родной семье.
Варфоломей был скромным, тихим и молчаливым мальчиком, со всеми был кроток и во всём послушен родителям. Те тоже любили Варфоломея, и он, получив их разрешение, с двенадцатилетнего возраста стал приучать себя к жизни подвижника – так строго постился, что по средам и пятницам совсем не принимал пищи (как делали тогда особенно благочестивые взрослые), а в остальные дни питался хлебом и водой. Маму это сначала обеспокоило, но потом она увидела, что Варфоломей и при таком скудном питании растёт крепким и здоровым. Он часто посещал храм, а дома проводил в молитве целые ночи и усердно читал книги святых отцов.
Так бы и жить Варфоломею в своём ростовском имении, пока он вырастет и станет настоящим монахом. Но …
Когда Варфоломею было пятнадцать лет, Ростовское княжество присоединилось к Москве. Теперь Ростовом стал управлять московский наместник по имени Иван Кочева. Он устанавливал свои новые жестокие порядки и отбирал имущество у бояр и знатных людей Ростова.
Отец Варфоломея тоже лишился всех средств и стал бедняком, поэтому его семья вынуждена была бежать из родных земель.
Пристанище себе они нашли в небольшом поселении Радонеж, в шестидесяти километрах от Москвы. Там и жили, пока все три сына обедневшего боярина не повзрослели. Пришла пора, и отец их умер. А вслед за ним и матушка отошла к Богу. После смерти родителей братья не стали делить скудное наследство. Оно целиком досталось младшему брату Петру. А Варфоломей и его старший брат Стефан поселились в десяти верстах (верста – это чуть больше километра) от Радонежа, в глубоком лесу около речки Кончюры.
Долго ходили братья по окрестностям, выбирая пустынное место – то есть безлюдное, тихое, незаселённое людьми. Наконец им полюбился один лесной уголок, удалённый и от поселений, и от дорог. Это место было Самим Богом предназначено для обители, ведь над ним и прежде люди видели то небесный свет, то огонь, а некоторые ощущали здесь благоухание. Выглядело же это место как небольшой холм, который возвышался над окрестностями в виде маковки, поэтому его и назвали Маковцем, или Маковицею. Густой лес, которого ещё никогда не касалась рука человеческая, одевал его со всех сторон сплошной чащей, высоко поднимая к небу свои тихо шумевшие вершины.
В этих лесных дебрях можно было найти немного воды, хотя идти за нею было и не близко. Братья срубили огромные вековые ели, обтесали их топорами и своими руками построили келью с небольшой церковью. Церковь освятили во имя Святой Троицы. Так было положено начало будущей обители преподобного Сергия.
Но недолго довелось братьям жить вместе. Хоть Стефан и был старшим братом, а не выдержал тяжёлой жизни отшельника вдали от людей. Как ни упрашивал его Варфоломей остаться, но Стефан ушёл из лесной чащи и отправился в Москву. Там он поступил в Богоявленский монастырь, а через некоторое время стал его настоятелем и духовником московского князя.
Варфоломей же постригся в монахи с именем Сергий и больше двух лет жил в лесу один. Сложно даже представить себе, сколько трудностей пришлось преодолеть молодому монаху за это время. Ведь было ему тогда чуть больше двадцати лет. Зимой стаи голодных волков рыскали около кельи и выли ночи напролёт, зловещим огнём горели в тёмном лесу их страшные глаза. А в тёплое время года иногда заходили сюда и другие, ещё более страшные обитатели здешних мест – медведи. Страшно было преподобному Сергию, как и любому человеку, чего ж скрывать. Но другой на его месте убежал бы из таких диких лесов без оглядки. А он при виде диких зверей лишь усерднее молился, надеясь на помощь Бога. И волки с медведями уходили в глубину лесных дебрей, не причинив ему никакого вреда.
Однажды весной преподобный Сергий увидел перед своей хижиной большого медведя, оголодавшего после зимней спячки. Правда вид у мишки был совсем не свирепый: исхудал, мех висит клоками. Встал перед кельей и рычит жалобно, будто поесть просит. Сжалился монах над зверем: взял кусок хлеба, вышел и отдал медведю свой обед. Ведь кроме хлеба, который ему иногда приносил младший брат, у преподобного Сергия не было другой еды. Медведь съел хлеб и ушёл в лес. И потом стал время от времени приходить к святому в гости – отведать монашеского хлеба. А тот лишь благодарил Бога за такого необычного соседа, посланного ему в утешение.
Через три года слава о духовных подвигах преподобного Сергия достигла окрестных селений. К святому потянулись люди, жаждавшие получить от него наставление. Монахи просили разрешения поселиться рядом с ним, чтобы вести такую же праведную жизнь. Преподобный Сергий отказывал им: ведь жизнь здесь была очень трудна. Но в конце концов – разрешил. И вокруг него собралось двенадцать человек, решивших, как и он, служить Богу. Каждый из них построил себе келью-избушку, а преподобный обнёс их высоким забором из еловых брёвен для защиты от зверей. Густой лес окружал обитель со всех сторон. Вековые деревья склонялись над кельями, шумя своими вершинами. Даже около церкви повсюду были пни и брёвна, между которыми монахи устроили небольшие огородики, где выращивали овощи: картошку, морковку, лук. Вот как просто выглядела Сергиева Лавра в свои первые годы!
Став игуменом (то есть настоятелем обители), преподобный заботился о братии, а о себе не думал вовсе, надеясь только на Божью помощь. И потому нередко случалось, что он подолгу голодал. Но ведь Сергий постился ещё с детства и привык переносить лишения, поэтому своим терпением подавал пример всей братии.
Однажды у него не осталось ни хлеба, ни соли, да и во всем монастыре было очень мало припасов. Три дня игумен жил без еды, а на рассвете четвёртого дня взял топор и пошёл к одному из монахов, по имени Даниил.
– Слышал я, старче, – сказал преподобный Сергий, – что ты хочешь пристроить сени к своей келье; позволь мне построить их для тебя, чтоб руки мои не были без дела.
– Правда, – ответил ему Даниил, – мне очень бы хотелось построить их; у меня уже всё и для работы давно заготовлено, и вот только поджидаю плотника из деревни. А тебе как поручить это дело? Пожалуй, запросишь с меня дорого.
– Эта работа недорого тебе обойдётся, – сказал игумен. – Мне вот хочется плесневелого хлеба, а у тебя он есть; больше этого я с тебя не потребую. Разве ты не знаешь, что я умею работать не хуже плотника? Зачем же тебе, старче, звать другого работника?
Тогда Даниил вынес ему решето с кусками плесневелого хлеба, который сам он есть не мог, и сказал:
– Вот, если хочешь, возьми всё, что тут есть, а больше не взыщи.
– Хорошо, – сказал преподобный Сергий, – этого с избытком довольно для меня; побереги же до девятого часа: я не беру платы прежде работы.
Настоятель крепко затянул пояс и усердно принялся за работу. С раннего утра до позднего вечера, несмотря на голод, он пилил, тесал доски, долбил столбы – и к ночи окончил постройку. Солнце уже скрылось за дремучим лесом, когда старец Даниил снова вынес ему плесневелые куски хлеба – условленную плату за целый день труда. Положив их перед собою, игумен помолился и начал есть, даже без соли, только с одной водой. Это был и обед, и ужин за целых четыре дня!
Видя это, другие монахи удивлялись терпению своего игумена, который даже такую невкусную пищу мог принять только как плату за свой труд. Ведь он строго следовал заповеди апостола Павла: кто не работает, тот да не ест (2 Сол. 3: 10). И братия по мере сил старалась подражать своему наставнику.
В те годы земля Русская уже сто пятьдесят лет находилась под властью татаро-монголов. Русские князья каждый год платили им дань. Воевать с ними было просто немыслимо: уж слишком большое и сильное войско собрали монголы. Да и не могли тогда князья на Руси объединиться. У каждого своя дружина, а вместе собраться – никак. Куда уж там договориться, если князья то и дело ссорились друг с другом и норовили на своего же соседа выйти в поход.
Но вот один из татарских ханов, по имени Мамай, решил, что одной дани от русских князей ему уже мало. И собрался идти на Русь с огромной армией, чтобы захватить все города, перебить князей и самому править Русской землей. Напрасно великий князь Дмитрий Иванович пытался умилостивить его дарами и покорностью: Мамай и слышать не хотел о пощаде. Как ни тяжело было великому князю после недавних войн с литовцами снова готовиться к войне, а делать было нечего: татарские полчища надвигались как грозовая туча к пределам Руси.
И тогда Дмитрий Иванович смог убедить остальных князей оставить раздоры, объединить все дружины в одно войско и встретить грозного врага Мамая ещё на подходе. Пока он не добрался до наших городов и не натворил там страшной беды.
Русских дружинников было очень много, такой сильной армии до сих пор на Руси ещё никто не собирал. Но всё равно их было намного меньше, чем бойцов у Мамая. Всем было понятно, что без Божьей помощи в этой битве никак не победить.
Великий князь Дмитрий Иванович решил пойти в монастырь к Сергию, чтобы там поклониться Богу и получить благословение. Он пригласил с собою других православных князей и воевод и вместе с дружиной прибыл в Троицкую обитель. Помолясь, великий князь сказал святому игумену:
– Ты уже знаешь, отче, какое великое горе нависло над нами: ордынский князь Мамай идёт на Русскую землю разорять святые церкви и губить христианский народ… Помолись же, отче, чтобы Бог избавил нас от этой беды!
Преподобный посоветовал князю Дмитрию Ивановичу принести Мамаю дары и показать свою покорность.
– Тебе, господин, – сказал он, – следует заботиться и крепко стоять за своих подданных, и душу свою за них положить, и кровь свою пролить. Но прежде пойди к Мамаю с правдой и покорностью, как следует по твоему положению покоряться ордынскому царю. Ведь и Писание учит нас, что если такие враги хотят от нас чести и славы, то дадим им; если хотят злата и серебра, дадим и это; но за имя Христово, за веру Православную нам подобает душу свою положить и кровь свою пролить. И ты, господин, отдай им честь, и злато, и серебро, и Бог не попустит им одолеть нас: Он вознесёт тебя, видя твоё смирение, и низложит их непреклонную гордыню.
– Всё это я уже сделал, – ответил ему великий князь, – но враг мой возносится ещё более.
– Если так, – сказал Сергий, – то его ожидает верная гибель, а тебя, великий княже, помощь, милость и слава от Господа. Уповаем на Господа и на Пречистую Богородицу, что они не оставят тебя.
И, осеняя великого князя крестом, произнёс:
– Иди без страха! Господь поможет тебе!
А затем, понизив голос, сказал так тихо, что слышно это было только великому князю:
– Победишь врагов твоих.
Но не только напутствием и молитвой благословил преподобный князя. В то время в обители были два инока: Александр Пересвет и Андрей Ослябя. Все были наслышаны об их мужестве, храбрости и воинском искусстве, ведь до принятия монашества они оба славились как доблестные воины, опытные в военном деле. Вот этих-то иноков-богатырей и дал преподобный Сергий в помощь великому князю.
И когда русское войско сошлось с Мамаем на Куликовом поле, один из них – Александр Пересвет – начал битву, выйдя на поединок со знаменитым татарским силачом Челубеем. Одним своим видом Челубей внушал ужас: огромный, мощный, со свирепым лицом, он потрясал копьём и кричал: «Ну, кто посмеет сразиться со мной?! Кому жизнь не дорога?!» И тут из русских рядов выехал Пересвет. В простом монашеском одеянии, без лат и шлема, вооружённый тяжёлым копьем, словно молния устремился он на страшного татарина на своём быстром коне. Раздались громкие крики, противники сблизились, ударили друг друга тяжёлыми копьями, и – оба богатыря пали мёртвыми на землю!
Тогда-то и закипела битва, заблестели мечи острые, как молнии, затрещали копья, полилась кровь богатырская под сёдла, покатились шлемы золочёные под ноги конские, а за шлемами и головы богатырские…
В это время в Троицкой обители святой игумен Сергий собрал всю братию и молился Богу за успех русского войска. Хоть Сергий и находился в монастыре, но его дух был на Куликовом поле. Игумен видел всё, что там происходило, и говорил об этом монахам. Он называл имена павших воинов и молился за них. Наконец Сергий возвестил, что враг побеждён, и прославил Бога за победу русского войска.
В честь этой великой победы князь Дмитрий и был назван Донским, ведь Куликово поле находилось рядом с рекой Доном.
Благодаря святому Сергию враждующие князья примирились, собрали сильное войско и прогнали татар-поработителей. Да и после Куликовской битвы преподобный Сергий ещё не раз мирил между собой русских князей, наставляя их жить в любви, по Божьим заповедям, и не зариться на добро соседа. За эти и другие славные дела Сергий Радонежский вошёл в народную память с высоким званием – игумен земли Русской.
А начало всему этому было положено на том далёком ростовском лугу, где мальчик, собиравший разбежавшихся отцовских жеребят, попросил у Бога научить его грамоте.
У Бога ведь и вправду – всего много. Преподобный Сергий всей своей жизнью показал, что полученный от Бога дар он использовал на благо себе и всему русскому народу! И когда такой человек осуществит волю Божью о себе, благодарный народ вечно хранит память о его добрых делах.
Владимир Мономах
Поучение
1-я четверть XIII в.
‹…› Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому из детей моих она будет люба, пусть примет ее в сердце свое и не станет лениться, а будет трудиться. Прежде всего, Бога ради и души своей. Страх имейте Божий в сердце своем и милостыню давайте нескудую, это ведь начало всякого добра. ‹…› Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, также и Господь наш показал нам победу над ворогами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божья, как теми делами тремя избавиться от грехов своих и царствия небесного не лишиться. Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте тех трех дел, не тяжки ведь они. Ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божью. ‹…›
Всего же более убогих не забывайте, но насколько можете, по силам кормите и подавайте сироте и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его. Если и будет повинен смерти, то не губите никакой христианской души. Говоря что-либо дурное или хорошее, не клянитесь Богом, не креститесь, ибо нет тебе в этом никакой нужды. Если же вам крест придется целовать братии или кому-либо, то, поверив сердце свое, на чем можете устоять, на том и целуйте, а поцеловав, соблюдайте, чтобы, преступив, не погубить души своей. Епископов, попов и игуменов чтите и с любовью принимайте от них благословение, и не устраняйтесь от них, и по силам любите и заботьтесь о них, чтобы получить по их молитве от Бога. Паче всего гордости не имейте в сердце и в уме, но скажем: смертны мы, сегодня живы, а завтра в гробу; все это, что Ты нам дал, не наше, но Твое, поручил нам это на немного дней. И в земле ничего не сохраняйте, это великий грех. Старых чти, как отца, а молодых – как братьев.
В дому совсем не ленитесь, но за всем сами наблюдайте; не полагайтесь на тиуна или отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над домом вашим, ни над обедом вашим. На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью, сторожей сами наряживайте, и ночью. Расставив охрану со всех сторон, около воинов ложитесь, а вставайте рано; а оружия не снимайте с себя второпях, не оглядевшись по лености. Внезапно ведь человек погибает. Лжи остерегайтесь, и пьянства, и блуда, от того ведь душа погибает и тело. Куда бы вы ни держали путь по своим землям, не давайте отрокам причинять вред ни своим, ни чужим, ни селам, ни посевам, чтобы не стали проклинать вас. Куда же ни пойдете и где остановитесь, напоите и накормите нищего, более же всего чтите гостя, откуда бы ни пришел, простолюдин ли, или знатный, или посол; если не можете почтить его подарком, то пищей и питьем; ибо они, проходя, прославят человека по всем землям или добрым или злым. Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны. Не пропустите человека, не поприветствовав его, и доброе слово ему молвите. Жену свою любите, но не давайте ей власти над собою. А вот вам и основа всему: страх Божий имейте превыше всего.
‹…› Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее, прежде всего к церкви: пусть не застанет вас солнце в постели. ‹…› А теперь поведаю вам, дети мои, о труде своем, как трудился я в разъездах и на охотах с тринадцати лет. ‹…› Что надлежало отроку моему. То сам делал – на войне и на охотах, ночью и днем, в жару и стужу, не давая себе покоя. На посадников не полагаясь, ни на бирючей, сам делал то. Что было надо; весь распорядок и в доме у себя также сам устанавливал. И у ловчих охотничий распорядок сам устанавливал, и у конюхов, и о соколах, и о ястребах заботился. Также и бедного смерда и убогую вдовицу не давал в обиду сильным и за церковным порядком и за службой сам наблюдал.
Публ. по: Памятники литературы Древней Руси (ПЛДР). XI – нач. XII в. М., 1978. С. 392–413.
Протопоп Аввакум
Житие протопопа Аввакума, им самим написанное
Перевод Натальи Владимировны Понырко
Протопоп Аввакум в культурной памяти русского народа
Весной 1670 г. в Пустозерске строили земляную тюрьму. Стрелецкий полуголова Иван Елагин прибыл сюда чинить казнь. Четверо узников шли в окружении команды стрельцов к месту, где уготована была плаха. Протопоп Аввакум, священник Лазарь, дьякон Феодор и инок Епифаний готовились к смерти. Палач ждал на своем месте. Когда полуголова вышел на средину и начал разворачивать свиток, чтобы прочесть царский указ, осужденные на казнь стали прощаться друг с другом. Аввакум благословил плаху. В это время Иван Елагин принялся вычитывать царскую грамоту: государь изволил приговорить Аввакума к заключению в земляной сруб, посадив на хлеб и воду, а остальным узникам – сечь руки и резать языки.
То, что происходило далее 14 апреля 1670 г. в заброшенном на край света Пустозерском остроге, было горько и страшно. Старец Епифаний просил, чтобы вместо руки и языка ему отсекли голову, так велико было отчаяние. Священник Лазарь сам расправлял язык под инструментом палача, чтобы сократить мучения.
Когда их развели с места казни по тюрьмам, узники «разметали» всё своё имение, раздали всё, «не оставив у себя и срачицы». Это был жест последнего исступления и бессилия. Они звали смерть, отказавшись от пищи, а Епифаний обнажал рану на руке, чтобы вместе с кровью ушла и жизнь.
Пустозерская казнь была не просто очередным мучительством, но крушением последних надежд: ещё в феврале 1668 г., вскоре по прибытии в пустозерское заточение, священник Лазарь написал две челобитные – царю и патриарху Иоасафу, в которых просил у царя суда на архиепископов и давал последовательный и программный разбор всех пороков церковной реформы[1].
Содержание челобитных было известно товарищам Лазаря и одобрялось ими. О требованиях Лазаря дьякон Феодор за несколько месяцев до казни писал семье Аввакума: «Лазарь отец писал царю письма <…> а писал страшно и дерзновенно зело – суда на еретиков просил»[2]. Узники всё ещё надеялись на царя, на его сочувствие и охоту рассудить их право и, главное, на силу своего слова. Ведь Лазарь не только просил, он и грозил: «И аще мы <…> мучимы есмы всяко и казнимы, в тесных темницах затворены <…> и о сем, царю, будут судиться с тобою прародители твои, и прежний цари и патриархи <…> к сим же и святии отцы»[3].
Конечно, пишучи так, они должны были ожидать самого худшего. Они и ждали (оттого и «страшна» челобитная Феодору), но вместе с тем и надеялись. Двухлетняя волокита с отсылкой челобитных[4] объяснялась тем, что Лазарь никак не позволял воеводе Ивану Неелову «вычитать» их, прежде чем отсылать царю, как требовала того процедура. Он посылал челобитные за собственной печатью, лично и только царю, обращался к нему как человек к человеку и ждал, что тот как человек вонмёт ему. Настойчивое желание избежать посредников в общении с царём происходило от надежды на то, что это условие обеспечит успех. Челобитные Лазаря были написаны в феврале 1668 г., а посланы в Москву в феврале 1670 г.[5]. 14-е апреля было ответом на них.
Надежды рухнули. Вместо Божьего праведного и торжественного суда (Лазарь просил у царя испытания «Божией судьбой»: вызывался «предо всем царством самовластно взыти на огнь во извещение истины»[6]) – неправедный и унизительный в своей обыденности «градской» суд, трясущиеся руки палачей, не умеющих толком извлечь клещами усекаемые языки.
Но наступил день, когда из дальнего Пустозерска полетела к единомышленникам осужденных весть: «1678-го году, апреля в 14 день, на Фомины недели в четверток, в Пустозерском остроге, по указу цареву, полуголова Иван Елагин взял ис тюрем протопопа Аввакума, попа Лазаря, дьякона Феодора и старца Епифания. И шли они до уреченнаго места на посечение…»[7]. Кто писал записку о «казни», начинающуюся так по-летописному торжественно, в точности неизвестно. Имя, обозначенное криптограммой под сочинением, – Иван Неронов. В Пустозерске до 1679 г. проживал пинежанин Иван Неронов[8] (примечательно: полный тёзка духовного отца Аввакума). Из заключительных слов записки ясно, что автор их был гонимый сторонник старой веры и, возможно, тоже пустозерский узник[9]. Важно, что строки эти, помимо документального свидетельства о кровавом событии, означают ещё и то, что узники вновь обрели силы для сопротивления. Возвещение об их страдании само по себе уже было актом борьбы и означало, что казнь не достигла цели.
Примечательно, что герой этого небольшого сочинения, если уместно выделять героев среди страдальцев, – священник Лазарь.
У плахи, сообщает свидетель казни, осужденные вели себя по-разному. Аввакум «вопил», бранился и рыдал, «что отлучен от братии», Епифаний кротко умолял о смертной казни, Лазарь – пророчествовал. Когда попу отсекли язык, было так много крови, что ею обагрилось два больших полотенца. Одно из них Лазарь бросил молчаливым зрителям, обступившим место расправы, со словами: «Возьмите дому своему на благословение». И еще один жест был рассчитан на зрителя: отрубленную руку Лазарь поднял и, поцеловав, положил себе за пазуху[10].
В казни, свершившейся в Пустозерске, существовала некая градация: отпущенная Лазарю мера была самой большой. Было приказано сечь ему руку по запястье. За ним шел Феодор – кисть отрублена до половины ладони. Последним оказался Епифаний отсечено четыре перста.
Возможно, Лазарь был наказан больше всех как автор челобитных; и особое его поведение во время казни тоже, очевидно, связано с осознанием первенства в данном случае.
Из-под пера Лазаря, в отличие от остальных соузников, после казни 1670 г. не вышло больше ни строчки. Немудрено: он полностью лишился правой руки. Может быть, были и другие, скрытые, причины. Тем не менее, в пустозерском писательском союзе роль Лазаря заметна, а кое в чём, быть может, и основополагающа. Тема избранности впервые прозвучала как раз в связи с именем попа Лазаря. Мы убедились в этом на примере сочинения очевидца, описавшего вторую казнь. Были и другие сочинения.
Еще в Москве у гонимых деятелей Раскола возникла мысль о необходимости описывать и предавать гласности события, связанные с их преследованием со стороны духовных и светских властей. Она пришла к ним вместе с осознанием исключительности их роли в общественной жизни современности; под её влиянием была написана автобиографическая записка Епифания и создано (на основе записки Аввакума) сочинение дьякона Феодора о московском мучении Аввакума, Лазаря и Епифания. Тема избранности, которая зазвучала в последнем сочинении, уже тогда соединилась с именем Лазаря: «И егда священнику Лазарю язык отрезаша, является священномученику Лазарю Божий пророк Илия и глаголет ему: “Дерзай, священниче, и о истине свидетельствуй, не бояся”. И тогда он, отъемъ руку свою от уст, и кровь вылил на землю, и начат глаголати к людем слово Бжие и рукою благословляти народ»[11]. Её, эту тему, и продолжил очевидец второй казни в Пустозерске. А затем применительно к себе её развивал Аввакум в своём Житии и в посланиях, использовал и дьякон Феодор[12].
В 1668 г. в Пустозерске соединились, чтобы прожить бок о бок пятнадцать лет, четыре человека, имена которых для одной половины русских XVII в. стали символом праведности и даже святости, для другой – раскола и упрямого бунтарства. Позади было полтора десятилетия неравной борьбы, начавшейся с того момента, как новопоставленный патриарх Никон объявил церковную реформу, разослав Великим постом 1653 года по соборным церквам государства предписание заменить двуперстное крестное знамение троеперстием и упразднить земные поклоны на службах Великого поста. За отменой двуперстия и земных поклонов последовал целый ряд других изменений в обрядности русской Церкви, мотивируемых необходимостью унификации церковных порядков в соответствии с современным греческим укладом; последовала широкомасштабная правка богослужебных книг по современным греческим текстам, в то время как переписывавшиеся из поколения в поколение русские книги объявлялись испорченными по причине «неграмотности» русских книжников. Те, кто тогда не согласился в одночасье отказаться от многовековой традиции своих предков, поняли, что для них пришла пора тяжких испытаний. Несогласных с никоновыми нововведениями тотчас подвергли суровым репрессиям: после ареста и допросов были отправлены в ссылку протопоп Казанского собора на Красной площади Иоанн Неронов, муромский протопоп Логгин, костромской протопоп Даниил. Одним из последних среди белого духовенства, в сентябре 1653 года, был арестован и сослан в Сибирь протопоп Аввакум. В 1654 году был извергнут из сана и сослан на заточение в новгородские пределы, где вскоре и погиб при невыясненных обстоятельствах, епископ Павел Коломенский, отказавшийся подписать протоколы Московского собора, утвердившего Никонову реформу.
После разрыва, случившегося между царём и Никоном в ноябре 1658 г., когда сам Никон оказался не у дел, перед поборниками «старой веры» блеснула надежда на отмену реформы, но не тут-то было: взятый Никоном курс на перестройку церковной жизни царь Алексей Михайлович продолжил самостоятельно. На созванном им в 1666–1667 гг. поместном соборе русской Церкви противники Никоновой реформы были преданы анафеме и провозглашены раскольниками.
Позади был Московский собор 1666–1667 гг. с расстрижениями, бесконечными допросами и уговорами покаяться. Позади была первая казнь: Лазарю, Епифанию и Феодору резали языки первый раз ещё в Москве. Царь и духовные власти, отправляя узников в общее заточение, не помышляли, что превращают тем самым северный Пустозерск в своеобразный духовный центр, в котором в течение полутора десятилетий будут сходиться все нити старообрядческой борьбы.
Известно, что вскоре по прибытии осуждённых в Пустозерск начался оживлённый обмен посланиями между острогом и старообрядческой Москвой. Сочинения пустозерцев направлялись также на Мезень, на Соловки; позже в сферу влияния войдут Сибирь, Керженские леса. Семья протопопа Аввакума, томящаяся неподалеку от Пустозерска в Мезенской ссылке, стала основной связующей с внешним миром силой. Дьякон Феодор в письме к сыну протопопа Ивану писал о переправляемых на Мезень сочинениях: «…в Соловки пошли и к Москве верным. И тут давай списывать верным человеком, иже довольны будут и иных научити»; о «грамотках к Москве», которые надлежало пересылать семейству Аввакума, писал и сам протопоп[13]. В это время (до последней трети 1669 г.[14]) в Пустозерске были написаны два сочинения, которые до некоторой степени можно считать плодом коллективного творчества узников: Послание некоему москвичу Иоанну (скорее всего, сыну протопопа Аввакума Ивану) и «Книга-ответ православных». И хоть первое подписано и протопопом Аввакумом, а о втором известно, что оно составлено по поручению всей «горькой братии», все же известно также и то, что писаны оба сочинения были дьяконом Феодором[15].
Дьякон слыл за знатока Писания. Инок Авраамий даже считал его «паче иных» в Божественном писании потрудившимся[16]. Это, очевидно, и предопределило то, что программные сочинения, трактующие о пришествии в мир Антихриста и об отношении к никонианскому духовенству, было поручено написать дьякону Феодору.
Общаться заключенным было первое время сравнительно легко. Их привезли зимой. Земляная тюрьма готова не была, да и не было возможности её строить – из-за вечной мерзлоты, из-за неимения строевого леса, из-за отсутствия рабочих рук. Препирательства между воеводой и местными крестьянами, уклонявшимися от выполнения государевой повинности на постройке земляной тюрьмы, тянулись до 1670 г., покуда не пришёл указ о казнях и немедленном возведении тюрем[17]. А до тех пор для ссыльных были освобождены избы местных крестьян, каждому отдельная.
По ночам они выбирались из своих узилищ и встречались в домах преданных им людей или, быть может, в каком-то одном доме. Во всяком случае известно, что среди пустозерцев жил некий «брат Алексей», в чьём доме Аввакум и Феодор встречались ночами до казни[18]. В этом доме, возможно, и приписал Аввакум к готовому уже Посланию Феодора Иоанну: «Сие Аввакум протопоп чел и сие разумел истинно»[19].
Содержание обоих сочинений Феодора представляло последовательную характеристику переживаемого времени как «последнего отступления» перед пришествием Антихриста. Раньше, в Москве на соборе, они только грозили Антихристом, теперь уже без колебаний утверждали, что «последнее отступление», которому должно наступить перед явлением Антихриста, пришло в Россию вместе с Никоновой реформой.
Понятно, что для власти это было неприемлемо, и пустозерцы, рассудившие так, превращались в противников всего государственного устройства. Феодор писал: «Во время се – ни царя, ни святителя. Един бысть православный царь на земли остался, да и того, не внимающаго себе, западнии еретицы <…> угасили <…> и свели во тьму многия прелести»[20]. Кроме изобличения «последнего отступления», сочинения Феодора толковали об отношении к никонианскому духовенству. Чуждаться повелевали пустозерские узники священников никонианского рукоположения («то есть часть антихристова воинства»[21]), а священников дониконовского поставления принимать только в том случае, если они отвращаются нововведений, в противном же случае – отвергаться их, как и первых.
Сочинение Феодора было последовательным обличением и откровенной программой, и хоть писалось оно по решению всех соузников, но рукою Феодора. Неспроста сам Феодор писал: «А послание, что к тебе писано, брате Иоанне, от меня, и ты того, в Соловки не посылай руку мою (т. е. автограф. – Н. П.), отступникам бы не попало – они руку мою знают»[22].
Следует указать и ещё на одно сочинение, приведшее вторично дьякона Феодора на казнь. В 1669 г. была написана и отослана так называемая Пятая челобитная протопопа Аввакума царю Алексею. Однако автором первой половины этой челобитной был не Аввакум, а дьякон Феодор[23]; именно эта часть челобитной представляла собой одно из самых дерзких и смелых сочинений среди писаний раннего старообрядчества. Именно здесь было сказано: «Господин убо есть над всеми царь, раб же со всеми есть Божий»; здесь ответственность за расправу над старообрядцами перелагалась с духовных властей на царя: «Все в тебе, царю, дело затворися и о тебе едином стоит»[24]. Вторая, писаная самим протопопом Аввакумом, часть челобитной была значительно мягче по тону. Тут – хоть и обвинения, но вместе с ними ещё и выражение любви, и благословение. В первой же части – никакого намёка на частные отношения, полная непримиримость и страстное обличение царя как главного и даже единственного виновника нововведений и расправы над узниками.
Только дьякон Феодор решался в те поры называть царя «рогом антихристовым». Он так и написал в своем письме, адресованном семейству Аввакума. В этом письме дьякон писал в числе прочего и о том, что первая часть Пятой челобитной принадлежит его перу. Из письма также было видно, что дьякон меньше других надеялся на милость царя и способность его справедливо рассудить пустозерцев[25].
И вот это-то письмо и попало в руки властей. Единственный известный сейчас список послания дьякона Феодора семье Аввакума обнаружен в делах Тайного приказа[26]. Тайному приказу и вместе с ним царю, стало быть, сделалось известно и авторство дьякона в отношении Пятой челобитной, и помещенное в этом письме рассуждение о «роге антихристовом» со ссылкой на пророчества некоего суздальского пустынника Михаила, который будто бы по смерти царя Михаила Федоровича, в пору воцарения Алексея Михайловича, предвидя будущее, учил: «Несть царь, братие, но рожок антихристов»[27].
Письмо Аввакумову семейству, первая часть Пятой челобитной царю, «Книга-ответ православных» и послание Иоанну стоили дьякону Феодору половины ладони и второго отсечения языка.
Иерархия казней соответствовала и священнической иерархии казнимых. За что был вторично приговорён к отсечению языка и четырёх перстов кроткий Епифаний, единственный из четверых инок, нам неизвестно.
В автобиографическом Житии, написанном уже после 1670 г., как и в более ранней автобиографической Записке, Епифаний предстаёт пустынным подвижником, погруженным в свой внутренний мир, – мир «умного делания». Давно, задолго до Пустозерска, в пустынной келье своей молился Епифаний, да «пожрет» его сердце Исусову молитву. Ему в те поры не давалось овладеть этой молитвой, о которой Иоанн Златоуст писал: «Аще кто сию молитву Исусову, требуя ея, глаголет, яко из ноздрей дыхание, – по первом лете вселится в него Христос, Сын Божий, по втором лете внидет в него Дух Святый, по третием лете приидет к нему Отец, и вшедше в него, и обитель в нем сотворит Святая Троица. И пожрет молитва сердце, и сердце пожрет молитву»[28]. Но Епифаний надеялся на заповедь «просящему дастся» и постоянно пребывал в стремлении постичь «умную» молитву. Молитва не давалась ему, и он отчаялся, молясь о ней со слезами в ночи. Так продолжалось долго. Однажды, в одну из ночей, утомленный «правилом» и совсем потерявший надежду инок прилёг на лежанке и забылся «тонким» сном. И тут он услышал, что ум его «молитву Исусову творит светло, и красно, и чудно». Он проснулся: «А ум мой, яко лебедь доброгласный, вопиет ко Господу»[29]. С тех пор в душе Епифания пребывала Исусова молитва.
И одновременно это был человек, нашедший в себе решимость пойти из далёкой пустыни в столицу с обличением Никона и царя. Никто не знает содержания «книг» Епифания, направленных против нововведений, потому что книги эти до нас не дошли. Но то, что они существовали, известно. Именно за «книги» пошёл кроткий инок на казнь в Москве[30]. Может быть, в апреле 1670 г. ему их снова припомнили? Или в Пустозерске были написаны новые, до нас не дошедшие?
Казнь 1670 г. в Пустозерске была призвана уничтожить пустозерский союз как силу. Но это не удалось. Наоборот, казнь подняла пустозерских узников на мученическую ступень и дала им право непреоборимого нравственного превосходства над противниками. Писаний не убавилось. Их стало больше. Достаточно сказать, что оба автобиографических Жития, Аввакума и Епифания, были созданы после 1670 г., как и оба Пустозерских сборника – памятники совместной писательской деятельности узников.
А писать после 1670 г. стало значительно труднее, почти невозможно. Отстроенная наконец тюрьма представляла собой четыре сруба, осыпанных землёй. Каждый из них был обнесён тыном, и все вместе – общим острогом. От полу до потолка можно было достать рукой, и в самом верху находилось оконце, в которое подавалась пища и выбрасывались нечистоты. Весной тюрьмы до лежанок затопляло водой, зимой печной дым выедал глаза и удушал. Глаза Епифания так загноились, что он временно ослеп и долго не мог заниматься любимым рукоделием – вырезыванием деревянных крестов. Но именно здесь, в землянках, а не в первые два года в крестьянских избах, при постоянной нехватке бумаги, были написаны Жития Аввакума и Епифания, другие значительные произведения Аввакума, здесь писал свои сочинения дьякон Феодор. Все четверо были разные. И во многом равновеликие Аввакуму. Несоизмерим был дар слова.
В первенстве же Аввакума, которое всё же сразу бросается в глаза, большую роль играл первоначально его священнический сан. Не надо забывать, что Аввакум был старшим по сану, единственным протопопом среди узников. Лазарь – просто поп, Феодор занимал последнюю ступень в священнической иерархии – дьякон, Епифаний вовсе не был священнослужителем, а был просто иноком. Поэтому, когда московская и другая паства обращалась преимущественно к Аввакуму за разрешением разных вопросов, будь то нравственные проблемы, вопросы христианской догматики или поведенческой тактики (все они для старообрядца XVII в. с высшей точки зрения были вопросами веры), они обращались не только к его таланту и авторитету, но и, не в последнюю очередь, к его духовному сану, изначально предполагавшему этот авторитет.
Духовный сан Аввакума определял его отношения с людьми. Но в протопопе счастливо соединилось священническое предназначение с человеческим призванием и божеским даром. Как, например, в его духовном отцовстве.
Он был священник и потому учитель, «отец» («Се аз и дети, яже ми дал есть». – Евр. 2:13). Число духовных детей Аввакума, по его собственному счету, доходило до 600[31]. Можно сказать, что вся его жизнь была страстным и одновременно добросовестным исполнением долга духовного отцовства. Часто дети духовные превращались для Аввакума просто в детей. Талант и духовная мощь поднимали протопопа над людьми, заставляли смотреть на них как на малых детей. Его знаменитое «играю со человеки» – это игра строгого и пекущегося отца с детьми[32].
Разве не «играл» он со своей духовной дочерью Анной из Тобольска, когда та, раскаиваясь перед ним в грехе, плакала и рыдала? «Аз же пред человеки кричю на нея», смиряя её и в конце концов прощая[33].
Так же «играет» Аввакум, когда бранит старицу Меланию, духовную наставницу боярыни Морозовой. Сменяются гневные обличения одно яростнее другого, а в заключение: «А Меланью-ту твою ведь я знаю, что она доброй человек, да пускай не розвешивает ушей: стадо-то Христово крепко пасет, как побраню. Ведь я не сердит на нея – чаю, знаешь ты меня»[34].
И вся брань по адресу боярыни Морозовой, оплакивающей умершего сына своего Ивана Глебовича, – тоже игра. Он бранит «нарочно», чтобы утешить, а сам скорбит вместе с матерью[35].
Символика отец-дети часто движет образами Аввакума. Так, наставление в вопросах веры Ксении Ивановны (казначеи в доме боярыни Морозовой) вырастает у Аввакума в картину прогулки по некоему «разумному граду», где наставляемая представлена как малое чадо, ведомое за руку в незнакомых местах опытным наставником: «Да гряди убо, чадо, да тя повожу, прежде за руку ем, по граду и покажу ти сокровенная чюдеса великаго сего града и разумнаго, и угощу тя в нем»[36].
Здесь следует оговориться. Отношение к людям как к детям не питало гордыню Аввакума. Вот, например, он пишет своей духовной дочери: «Ты уже мертвец, отреклася всего; а оне еще, горемыки, имут сердца своя к супружеству и ко птенцам. Мочно нам знать, яко скорбь их томит»[37]. Противопоставление себя другим («Можно нам знать… их») не лишает Аввакума сострадания. Даже «заплутавшие» дети остаются его детьми – «таковы и мне дети, хотя бы оне и впрямь заплутали»[38].
Для Аввакума всякий человек незакончен и потому, даже если плох, то не однозначен. Он плох, покуда не покаялся, а покаяния Аввакум ждал всегда, потому что искал и предполагал в человеке душу. Поэтому он глубоко склонен к прощению. Пусть дьякон Феодор повинился перед собором патриархов, но, очень скоро раскаявшись в этом, он кончил жизнь свою в пустозерской тюрьме; пусть среди мучителей протопопа во время его заточения в Пафнутьеве монастыре был прониконовски настроенный келарь Никодим, но затем он сделался тайным последователем старой веры.
Очень важен в этом отношении эпизод с отречением старших сыновей Аввакума. Находившиеся в Мезени Прокопий и Иван перед угрозой казни «повинились» перед властями. Аввакум, после долгих обличений сыновей за это, отвечал им в итоге так: «Ну, да Бог вас простит, не дивно, что так сделали, и Петр апостол некогда убоялся смерти и Христа отрекся и о сем плакася горько, таже помилован и прощен бысть»[39].
От этого изначального прощения человеку прегрешений в уповании на его способность «восстать» происходило и двойственное, на первый взгляд, отношение Аввакума к людям. Афанасия Пашкова Аввакум и проклинает и жалеет, и ненавидит и любит. То же можно сказать и об отношении протопопа к царю Алексею Михайловичу.
Не объяснит ли сказанное сложные отношения протопопа с дьяконом Феодором, отчасти являющиеся загадкой? Вспомним рассказ Феодора: «По сем же некогда в полночь выходил аз из ямы вон окном, якоже и он Аввакум, в тын и их посещал и прочих братию вне ограды. И то хожение мое нелюбо ему (Аввакуму. – Н. П.) стало, и сотнику сказал он. Сотник же, Андрей именем, враг бысть, мздоимец, и на мя гнев имел за некое обличение. И в то время велел меня ухватить стрельцом в тыну, нага суща. И яша мя, и начата бити зело <…>. А стрельцы, влезше в мою темницу, по благословению Протопопову, и те книжицы и выписки мои похитиша и ему продаша»[40]. Речь идёт о возникшей в Пустозерске распре между дьяконом Феодором и протопопом Аввакумом.
Спор между Феодором и Аввакумом по нескольким догматическим вопросам возник впервые еще до первой Пустозерской казни, тогда речь зашла о Троице. Но он вскоре утих. Аввакум в ту пору обуздал себя, осознав нелепость распри в их условиях. Он сказал тогда Феодору: «Впредь покинем о том стязатися в темнице сей»[41]. Миротворческую роль играл духовный отец Аввакума инок Епифаний, уговаривавший своего духовного сына не браниться с Феодором.
После 1670 г. спор возобновился и разросся. Помимо несогласия в догмате о Троице обнаружилось несходство мыслей в понимании догмата о схождении Святого Духа на апостолов, о воплощении Бога Слова, о сошествии Христа во ад. При этом Феодор, по мнению учёных богословов, изучавших писания старообрядцев, отстаивал абсолютно правильную православную точку зрения[42].
Аввакум же оказался уязвим. В его сугубо конкретном и чувственном понимании отдельных догматов православия сказались народно-демократические воззрения русского христианства, основным источником которых были апокрифы и идущая за ними иконография. Феодор был более искушён в отвлеченном богословии; сознание собственной правоты укрепляло его даже тогда, когда он оказался один против троих.
Но в чем же дело? Почему спор возник и принял такие крайние формы? Многое в полемике между Аввакумом и Феодором не понятно из-за односторонности источников. Спасти дело могли бы книги Феодора, посвящённые вопросам спора. Но они были уничтожены по наущению Аввакума[43]. Как объяснить это наущение? Как объяснить то, что протопоп, сострадавший десяткам более далёких людей, смог выдать дьякона стрельцам, подговорить их весной затопить талыми водами его тюрьму?
К чести Феодора, он и в споре находил добрые слова для своих оппонентов: «Подвижники они и страстотерпцы великия и стражют от никониян за церковный законы святых отец доблественне, и терпение их и скорби всякия многолетныя болши первых мучеников мнится ми воистину. За та же вся и аз с ними стражду и умираю купно»[44]. Аввакум для дьякона таких слов не нашёл. Но поверим всё же, что его проклятия Феодору (как только ни бранил его Аввакум, и «щенком», и «косой собакой», и «бешеным дитяткой», отлучал Феодора от своего благословения) не были последними. Ведь называет он дьякона «дитятко бешеное»! Все-таки «дитятко». А может быть, протопоп опять «играет»? Вспомним, как яростно бранил он боярыню Морозову за некую распрю с юродивым Феодором, – но это не мешало ему любить её и почитать за истинную страстотерпицу.
То, что ругательные слова Аввакума о дьяконе Феодоре не были окончательными, подтверждается совместной работой узников над Пустозерским сборником, свидетельствованием правды о мучениях Феодора в автобиографическом аввакумовом Житии, создававшемся во время распри.
Последняя, смертная, казнь соединила их вновь и навечно. Снова был апрель, шла Страстная седмица. Снова четверых вели на площадь. Только теперь там ждала не плаха, а новенький сруб. Приговорённые могли не гадать о казни, они знали, что их ждёт. Когда-то Аввакум писал: «А во огнетом здесь небольшое время потерпеть – аки оком мгнуть, так душа и выступит! Разве тебе не разумно? Боишися пещи той? Дерзай, плюнь на нея, не бось. До пещитой страх-от; а егда в нея вошел, тогда и забыл вся. Егда же загорится, а ты и увидишь Христа и ангельския силы с ним»[45]. Теперь пришёл и его черёд «увидеть Христа».
Перед смертью осужденные на казнь прощались друг с другом. Дьякон Феодор подошел к протопопу Аввакуму, и тот благословил его[46]. Когда на площади сделалось жарко от полыхавшего сруба, кому-то из зрителей в зыбком воздухе над языками пламени привиделась возносящаяся к небу фигура[47]. Так кончили свою жизнь пустозерские узники в страстную пятницу 1682 года.
А за пятнадцать лет до этого, 13 мая 1667 года, собравшемуся в Успенском соборе Москвы народу было объявлено об отлучении протопопа Аввакума и его соратников от церкви. С этого дня имя Аввакума ежегодно предавалось анафеме в первое воскресенье
Великого поста, когда читался Чин торжества православия. Это продолжалось около восьмидесяти лет; с реформой Чина православия, состоявшейся в 60-е годы XVIII столетия, анафему Аввакуму возглашать перестали. В XIX веке имя старообрядцев и вовсе ушло из этого Чина[48].
Но были другие Чины. Там протопопу Аввакуму провозглашалась вечная память. Разгнём старообрядческие Синодики и прочтём: «Помяни, Господи, душа усопших раб своих, за благочестие пострадавших: священнопротопопа Аввакума, священноиерея Лазаря, священнодиакона Феодора, инока Епифания <…> Рабом Божиим, иже за благочестие пострадавшим и згоревшим, о нихже и поминание творим, – вечная память!»[49]
Кроме пустозерских соузников, в том разделе, куда вписаны имена «за благочестие пострадавших», старообрядческий Синодик поминает среди прочих имена: Федора, Луки и Димитрия, инока Авраамия, Иоанна Юродивого Холмогорского, инока Гедеона «и иже с ним в Казани по многих муках сожженных»[50]. Этот перечень близок к тому, который привел сам Аввакум в начале своей Книги бесед: «На Мезени из дому моего двух человек удавили никонияна еретики на виселице; на Москве – старца Авраамия, духовнаго сына моего; Исаию Салтыкова в костре сожгли; старца Иону-казанца в Колском разсекли напятеро. На Колмогорах Ивана Юродиваго сожгли. В Боровске Полиекта священника и с ним 14 человек сожгли. В Нижнем человека сожгли. В Казани 30 человек. В Киеве стрелца Илариона сожгли. А по Волге той живущих во градех, и в селех, и в деревенках тысяща тысящими положено под меч <…> Мы же, оставшии, еще дышуще, о всех сих поминание творим жертвою <…> воспеваем, радующеся, Христа славяще <…> “Рабом Божиим побиенным – вечная память!” Почивайте, миленкие, до общаго воскресения и о нас молитеся, да же и мы ту же чашу испием»[51].
Поминал Аввакум. Поминают и его. История человечества как его совокупная память зиждется на особенной связи между живыми и мёртвыми. В разные эпохи эта связь бывает различной.
Какой была она для Аввакума?
«Помните ли вы, как Мелхиседек жил в чащине леса того?» – так начал Аввакум свою проповедь о «старолюбцах и новолюбцах»[52]. В другом месте, обличая никонианина, он опять написал: «Помнишь ли, Иван Предотеча подпоясывался по чреслам, а не по титкам поясом усменным!»[53] И ещё (это отрывок из письма попу Исидору): «Помнишь, Григорей о Трояне умолил?» (имеется в виду Григорий Двоеслов)[54].
Тут не литературное «помнишь», тут «помнишь» историческое. Для каждого из приведенных отрывков можно без труда указать конкретный источник; в первом случае – это Слово Афанасия, архиепископа Александрийского, о библейском царе-священнике Мелхиседеке, во втором – изобразительный материал иконографии Иоанна Крестителя, в третьем – Слово Иоанна Дамаскина «о иже в вере усопших» (в этом Слове среди прочих доказательств действенности молитвы за умерших приведён рассказ о том, как святитель Григорий Двоеслов спас своими молитвами от адских мучений царя Траяна)[55]. Но мы давно уже усвоили понимание того, что древнерусская литература не знала вымысла[56]. Предметом её были действительно бывшие события: если в ней встречаются поучения – то реальных исторических лиц, таких как Феодосий Печерский, Владимир Мономах, Кирилл Туровский, если жития – то реальных исторических подвижников, таких как Александр Невский, Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский; если описание битвы – то Мамаево побоище, если путешествие – то Хождение Афанасия Никитина. И те события, эпизоды и лица, которые мы не можем расценить как реально существовавшие, тоже воспринимались как действительно бывшие. Литература представляла собой совокупность переживаний, принадлежащих национальной памяти. Это была память давних лет зарождения русской государственности, память Игорева похода против половцев, память о Феодосии Печерском, Сергии Радонежском, о Петре и Февронии Муромских, о битве на Куликовом поле и т. д. И у Аввакума ссылка на книги – это ссылка на историческую действительность. Вот, он вспоминает о Флорентийском соборе, о котором знает по летописи («Тому времени 282 года, как бысть Флоренский собор. Писано в летописцах латынских, и в летописцах руских помянуто»), но это знание не о летописном тексте, это знание о жизни: «Царь <…> Иван Калуян поехал домой, умре на пути, его же земля не прия в недра своя. А патриарх Иван Антиохийский в Риме зле живот свой сконча. <…> А Цареградский Иосиф, разболевся, приволокся домой. А митрополит наш московской приехал домой с гордостию. Его же князь великий и встретить не велел, понеже гостинцы неладны привез: по правую руку крыж латынской вез, а по левую – крест Христов. <…> И наш старец Сергиева монастыря оттоле ушел, и на пути заблудил, емуже явился игумен преподобный Сергий Радонежский и проведе старца сквозе нужна места»[57].
Аввакум действительно помнил и Мелхиседека, и Иоанна Предтечу, и Григория Двоеслова, как и митрополита Исидора, как и старца Сергиева монастыря, «ушедшего» с Флорентийского собора. Особенно наглядно это его отношение к литературному источнику как к хранилищу памяти об историческом прошлом проступило во фразе, с которой он обратился к своему духовному сыну Симеону, когда речь зашла об учителе Церкви Иоанне Златоусте: «Слышал ли еси, чадо Симеоне, Златоустово учение и поболение о Церкве, напоследок же и душу свою предаде по Церкве святый?»[58]В этом его «слышал ли» отразилась позиция молвы: из глубины веков, с молвой, которую фиксирует книжность, идёт к нам память об Иоанне Златоусте, – слышал ли о ней Симеон?[59]
Аввакум слышал и помнил о Мелхиседеке, Иоанне Предотече, Иоанне Златоусте. Он помнил, если смотреть только по его писаниям, и Марию Египетскую, и Иулиана Великомученика, и Николу Мирликийского, и Евпраксию Великую, и Онуфрия Великого, и преподобного разбойника Давыда, и Никиту – столпника Переяславского, и рязанскую княгиню с младенцем, бросившуюся с высокой храмины, чтобы не предаваться «злочестивому царю Батыю», и Андрея Цареградского, и Максима Грека, и митрополита Филиппа[60], и еще бесконечное множество тех, кто жили в его памяти как живые и рядом с живыми.
Бросается в глаза как бы отсутствие дистанции между живыми и мёртвыми в сознании Аввакума: придут протопопу на ум нынешние страдания боярыни Морозовой в боровской земляной тюрьме, – и тут же вспомнятся прошедшие мучения мученика Мефодия, и он умилится о них обоих. «Древле также был миленькой Мефодиет з двема разбойникома закопан в землю, яко и боярыня Морозова Федосья в Боровске с прочими, в земле сидя, яко кокушка кокует. Кокуй, бедная, не бойся ничего».[61] Пошлёт он письмо с отеческим наставлением духовной дочери «боярошне Анисьюшке», а память приведёт к нему другую «боярошню», преподобную Евпраксию Великую: «Боярошня же была, царю Феодосию Великому отец и мати ея свои, сиречь племя, были; а она, свет, с малехонка Богу работати возложила себя. Не много и жила, – всего 33 лета, – да много любезно трудилася. Млада образ ангельский восприят и бысть во обители всем вся, старым и юным, работавше <…>. И того дни на сестр хлебы пекла, кой день умерла»[62].
«Тогдашнее» и «нынешнее» оказываются как бы равноправными в сознании Аввакума. Это проявляется и в том, как он излагает историю грехопадения Адама и Евы, играя прошлым и настоящим: «“И вкусиста Адам и Евва от древа, от негоже Бог заповеда, и обнажистася”. О, миленькие! Одеть стало некому! <…> Лукавой хозяин накормил и напоил, да и з двора спехнул! Пьяной валяется на улице, ограблен, а никто не помилует. Увы, безумия и тогдашнева и нынешнева!»[63]; и в том, как толкует он действия даря Алексея Михайловича против приверженцев старой веры, прибегая к аналогии с царём Манасией, создавая скольжение смысла: Алексей Михайлович – Манасия, Манасия – Алексей. «Сам так захотел: новой закон блядивой положил, а отеческой истинной отринул и обругал. Кто бы тя принудил? Самовластен еси и Священная писания измлада умееши, могущая тя умудрити <…> да не восхотел последовати учению отца истиннаго духовнаго твоего, но приял еси змию вогнездящуюся в сердце твое, еже есть тогда и днесь победители. Кайся вправду, Манасия!»[64]
Это проявляется и в постоянном употреблении глаголов настоящего времени по отношению к действиям давно умерших учителей и гимнографов: «Нет, су, не так Дамаскин-от поет…», «Якоже глаголет Ипполит, папа Римской…», «Иосиф, творец каноном, пишет, святый, сице…», «Так святии научают…», «Так Златоуст разсуждает…»[65].
Именно отсутствие в памяти протопопа Аввакума непреодолимой дистанции между живыми и давно умершими способствовало образованию тех анахронизмов, которыми изобилуют его писания. Вспомним хотя бы его фразу «Сарра пирогов напекла» при изложении библейской истории о посещении Авраама ветхозаветной Троицей[66]. Для Аввакумовой памяти они все как живые, потому и рисует она их в привычной ему обстановке. Он и о пророке Захарии напишет, что ему главу отрезали «в церкве», и брата Мелхиседека Мелхила назовёт «царевичем», и о Николе Чудотворце скажет, что он «Ария, собаку, по зубам брязнул»[67].
Дистанция между живыми и мёртвыми была так коротка в сознании Аввакума, что он мог испытывать чувство стыда перед умершими, как он это и написал в послании к боярину Андрею Плещееву: «И понеже, суетныя сия глаголы издав, не стыдишися, то аз тя стыжуся перед людьми святыми, иже суть столпи непоколебимии во православней христианстей вере и во святой соборной апостольской Церкви»[68].
В таком отношении Аввакума к живым и мёртвым выразился дух той культуры, к которой он принадлежит. Ведь в христианстве живые всегда как бы окружены умершими. Всякий день годового круга – это память нескольких святых людей, скончавшихся ли много столетий назад или умерших не так давно. Служба святому, чтение его Жития, проповеднических слов о нём – это усиленное обращение памяти к нему. Молитва святому – это как раз упразднение дистанции, соединение живых и умерших в единой памяти.
Но христианская Русь жила не только памятью о святых, она жила памятью обо всех умерших.
На Руси умерших поминают в дни их погребения, в третины, девятины, сорочины, в дни их тезоименитств и годовщины их смерти. В память об умерших всегда произносится молитва на литургии. В седмичном богослужебном круге поминовению умерших посвящена суббота, а в годовом – суббота мясопустная, суббота перед Пятидесятницей, радоница на Фоминой неделе, родительские субботы.
«Не имети милосердия к лишенному, не дати руку помощи падшему, отвратить лице свое от беспомощнаго и не явити пособствия тому, иже пособити себе не может – велие есть суровство, велие безчеловечие, паче же реку, безбожие. <…> Где наипаче благотворение явити можем, якоже в случае злоключения и страдательства! <…> Тако истинная любовь – в злострадании и нужде, по глаголу Павлову: любы николиже отпадет.
Но кая может быти вящщая нужда человеку, якоже егда умирает? Тело мертво лежит, недвижимо, безгласно, нечувственно, помощи себе отнюдь дати не может. Душа же, кто весть, аще кия не терпит нужды; кто весть, в кой путь грядет, и в кую страну! Кто весть, аще в благодати Божией от своего телесе разлучися! Кто весть, в примирении ли с Богом от сего мира изыде! <…> Зде благотворение показати достоит не точию мертвому телу, опрятавше тое и по обычаю погребающе, но наипаче души, молящи за тую Бога».
Это слова о молении за умерших из богословского трактата «Камень веры» митрополита Стефана Яворского, последнего местоблюстителя патриаршего престола перед введением Петром I синодального управления русской Церковью[69]. Стефан Яворский, формулируя догмат о молении за умерших, опирался на многовековую православную традицию. Много раньше него Иоанн Златоуст говорил об этом так: «Нам о усопших приносящим память, бывает им некая утеха. Обыкл бо есть Бог иным иных ради благодать даяти <…>. Не ленимо ся убо, отшедшим помогающе и приносяще о них молитвы, ибо общее лежит вселенней очищение. Сего ради, дерзающе о вселенней, молимся тогда и с мучениками призываем их, с исповедники, с священники, ибо едино тело есмы вси <…> и възможно есть отвсюду прощение им събрати»[70].
«Любы», которая «николиже отпадет», не может оставить душу дорогого ей человека, если от неё, от любви, зависит спасение этой души («кто весть, аще в примирении ли с Богом от сего мира изы-де?!»). Если можно умолить, если напряженным помнением можно избыть грехи («а кто без греха, только один Бог») того, кто так любим, то значит, в памяти и есть спасение. Спасён тот, для кого у живущих хватает любви на такую память, ведь «общее лежит вселенной очищение».
Именно так любил Аввакум. Вспомним его слова о скончавшихся в боровской тюрьме сестрах Федосье Морозовой и Евдокии Урусовой: «Лутче бы не дышал, как я их отпустил, а сам остался здесь! Увы, чада моя возлюбленная! Забвенна буди десница моя, прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну вас!»[71] Перед самою смертью три боровские узницы (третьей была Мария Данилова) прислали протопопу в тюрьму последнее послание на столбце бумаги; Аввакум о нём писал: «Долго столицы те были у меня: почту да поплачу, да в щелку запехаю. Да бес-собака изгубил их у меня.
Ну, да добро! <…> Я и без столпцов живу. Небось, не разлучить ему меня с ними!»[72]
Аввакум жил в окружении великого множества людей, живых и умерших, с которыми его было не разлучить. Он писал (в той редакции своего Жития, которая сохранилась в пустозерском сборнике Дружинина): «Молитися мне подобает о них, о живых и о преставлыиихся»[73]; и он молился. И молились о нём, как написал он сам в послании «горемыкам миленьким»: «…а я ведь <…> на всяк день подважды кажу вас кадилом, и домы ваша <…> и понахиды пою, и мертвых кажю <…> о вас молю, а ваших молитв требую же, да и надеюся за молитв ваших спасен быти»[74]. Как соответствует это Златоустовой мысли о том, что «общее лежит вселенной очищение»!
Общность и вселенскость рождались от той «вечной памяти», которой помнили живые своих умерших и о которой умирающие просили живых.
«Духовный мой отче и господине имярек! Сотвори со мною, Бога ради, последнюю любовь и милость сицеву: помилуй мя, Бога ради, пой за мя сий канон на третины, на девятины, на четыредесятины <…> помилуй мою душу грешную, помолися о ней ко Господу», – это слова из Предисловия пред каноном за единоумершего[75]. А вот что может быть сочтено ответом на них. Прочтём выдержку из рукописного сборника, где помещено Моление о усопших:
«Благий и милосердый Боже, у тебя прошу великия милости и оставления грехов преставлыпимся верным рабом твоим: иже <…> мне сродством и сожительством совокуплены быша, и иже себе в руце наша предаша, или нам исповедашася, или от коих милостыню восприяхом. <…> Пощади <…> прости им всякое согрешение вольное и невольное <…>»[76]
Моление это входит в общий раздел, озаглавленный в сборнике словами: «Подобает ведати, како поминати родители своя комуж-до человеку»[77]. Казалось бы, очень конкретное поминание. Но вот с чего начинает тот, кому об этом «подобает ведати»:
«Помяни, Господи, души преставлыиихся присно поминаемых раб твоих и рабынь: иже от твоея пречистыя <…> руки исперва созданнаго человека, прадеда нашего Адама и его супруги, прабабы нашея Еввы <…> и вся, иже в благочестии пожившия на земли во обхождении солнца во всех концах вселенныя. Помяни, Господи, души святейших вселенских патриарх, благочестивых царей и цариц, преосвященных митрополитов, благоверных великих князей и княгинь, боголюбивых архиепископов и епископов <…> и всего священнического и иноческого чина <…>. И паче о сих молю ти ся <…> помяни, Господи, напрасною смертию скончавшихся, от меча, и от всякаго оружия, и от межьусобной брани, и от огня згоревших, и в водах утопших, гладом, и жаждою, и мразом измерших, и всякою нужною смертию скончавшихся от злых человек <…> и от самовольных страстей бедне умерших и не сподобившихся исповедатися тебе <…> ихже имена ты сам веси <…>. О, Владыко пресвятый! <…> услыши мя убогаго и недостойнаго <…> молящагося тебе о всех и за вся»[78].
После этого следует поминовение родителей. Общность и вселенскость, связанные с вечной памятью, заставляют человека начинать поминовение отца и матери с поминовения праотца Адама и всех «от века поживших на земли». Так память родителей покоится на памяти всего рода человеческого.
В помянниках имя протопопа Аввакума стоит далеко от начала и конца. Те, кто поминал его, начинали поминовение с «прадеда нашего Адама и его супруги, прабабы нашея, Еввы», патриархов московских, митрополитов киевских и московских, царей и великих князей русских, игуменов Святой Горы и русских монастырей, юродивых, также и «братии наших, избиенных <…> от татар, и литвы, и от немец, и от иноплеменник, и от своей братии, от крещеных, за Доном, и на Москве, и на Берге, и на Белеве, и на Калках, и на езере Галицком, и в Ростове, и под Казанью, и под Рязанью, и под Тихою Сосною <…> на Югре, и на Печере, в Воцкой земли, и на Мурманех, и на Неве, и на Ледовом побоище». Они поминали и тех, «иже несть кому их помянути сиротства ради, убожества и последний ради нищеты». Они поминали и пострадавших за старую веру, сожженных в Пустозерске и в Москве, замученных в Нижнем, на Дону, в Вязниках, Новгороде, Пскове, на Соловках, в Сибири. Они поминали, наконец, и свои собственные роды[79].
Старообрядческая традиция в этом случае, как и во многих других, есть прямое воплощение древней русской традиции. Достаро-обрядческие помянники были построены по аналогичному типу: в них рядом с частными поминаниями находились общие; прежде чем вписать в книгу поминание конкретного рода, вписывали в неё поминание памятных в русской и всемирной истории лиц.
Своё Житие протопоп Аввакум кончил такими словами: «Пускай раб-от Христов веселится, чтучи, а мы за чтущих и послушающих станем Бога молить. Как умрем, так оне помянут нас, а мы их там помянем. Наши оне люди будут там, у Христа, а мы их во веки веком. Аминь»[80].
Эти слова можно воспринимать как обращение и к нам, «чтущим и послушающим» его Житие.
Литература нашего времени утратила свойство «историчности». С ней теперь в первую очередь связано представление не о действительно бывших, но о художественно вымышленных событиях. Но свойство своё быть хранилищем впечатлений, принадлежащих национальной памяти, она до сих пор особым образом сохраняет. И люди, забывшие своих родных прадедов, как живых помнят вымышленных Татьяну Ларину и Алёшу Карамазова, а вместе с ними и создавших эти литературные образы Пушкина и Достоевского. И в памяти о них происходит то соединение живых и умерших, которое не позволяет распасться связи времён.
Житию протопопа Аввакума в равной степени присущи свойства обеих русских литератур, старой и новой. Оно в первую очередь «исторично», но оно и «литературно», в том новом духе, который присущ литературе нового времени; недаром лучшие писатели XIX – начала XX веков ощущали свою как бы «корпоративную» близость с его автором[81]. Аввакум заставляет нас, привыкших к памяти литературной больше, чем к памяти истинной, помнить его одновременно и как литературного героя знаменитого Жития, и как автора этого самого Жития, человека, жившего до нас на земле, проповедника и священномученика. Так через «новую» память приходит к нам память «старая». Теперь и от нашей любви зависит вечная память протопопа Аввакума на земле.
Житие протопопа Аввакума, им самим написанное
Крестъ – всѣмъ воскресение, крестъ – падшим исправление, страстем умерщвление и плоти пригвождение; крестъ – душам слава и свѣтъ вѣчный1. Аминь.
Многострадальный юзник темничной, горемыка, нужетерпецъ, исповѣдникъ Христовъ священнопротопопъ Аввакум понужен бысть житие свое написати отцемъ его духовным иноком Епифаниемъ, да не забьвению предано будетъ дѣло Божие. Аминь2.
Всесвятая Троице, Боже и Содѣтелю всего мира, поспѣши и направи сердце мое начати с разумом и кончати дѣлы благими ихже нынѣ хощу глаголати аз, недостойный. Разумѣя же свое невѣжество, припадая, молю ти ся, и еже от тебя помощи прося: Господи, управи умъ мой и утверди сердце мое не о глаголании устен стужатиси, но приготовитися на творение добрых дѣлъ, яже глаголю, да, добрыми дѣлы просвѣщенъ, на Судищи десныя ти страны причастник буду со всѣми избранными твоими.
И нынѣ, Владыко, благослови, да, воздохнувъ от сердца, и языком возглаголю3 Дионисия Ареопагита о Божественных именех4, – что есть тебѣ, Богу, присносущные имена истинные, еже есть близостные, и что – виновные, сирѣчь похвальные.
Сия суть сущие: Сыи, Свѣтъ, Истинна, Животъ. Только свойственных четырѣ. А виновных много, сия суть: Господь, Вседержитель,
Непостижим, Неприступен, Трисиянен, Триипостасен, Царь Славы, Непостоянен огнь, Духъ, Богъ, и прочая.
По сему разумѣвай того же Дионисия о истиннѣ: «Себе бо отвержение – истинны испадение; истинна бо сущее есть; аще бо истинна сущее есть, истинны испадение сущаго отвержение есть. От сущаго же Богъ испасти не можетъ, и еже не быти – нѣсть»5.
Мы же речем: потеряли новолюбцы существо Божие испадени-емъ от истиннаго Господа Святаго и Животворящаго Духа. По Дионисию, коли ужъ истинны испали, тутъ и Сущаго отверглись. Богъ же от существа своего испасти не может, и еже не быти – нѣсть того в нем, присносущен истинный Богъ наш. Лучше бы им в Символѣ вѣры не глаголати «Господа», виновнаго имени, а нежели «истиннаго» отсѣкати, в немже существо Божие содержится. Мы же, правовѣрнии, обоя имена исповѣдуем и в Духа Святаго, Господа истиннаго и животворящаго, свѣта нашего, вѣруем, со Отцем и с Сыномъ поклоняемаго6, за негоже стражемъ и умираемъ, помощию его владычнею.
Тешит нас той же Дионисий Ареопагит, в книге ево писано: «Сей убо есть воистинну истинный християнин, зане истинною разумѣвъ Христа и тѣм богоразумие стяжавъ, исступив убо себе, не сый в мирском их нравѣ и прелести, себя же вѣсть трезвящеся и изменена всякаго прелестнаго невѣрия, не токмо даже до смерти бѣдъствующе истинны ради, но и невѣдением скончевающеся всегда, разумом же живуще, и християне суть свидѣтельствуемы»7.
Сей Дионисий, научен вѣре Христовѣ от Павла апостола, живый во Афинѣхъ, прежде, да же не приити в вѣру Христову, хитрость имый исчитати бѣги небесныя8. Егда же вѣрова Христови, вся сия вмѣних быти яко уметы. К Тимофею пишет9 в книге своей, сице глаголя: «Дитя, али не разумѣешь, яко вся сия внѣшняя блядь ничтоже суть, но токмо прелесть, и тля, и пагуба. Аз пройдох дѣлом и ничтоже обрѣтох, токмо тщету». Чтый да разумѣетъ.
Ищитати бѣги небесныя любят погибающим, понеже «любви истинныя не прияша, воеже спастися имъ, и сего ради послетъ имъ Богъ дѣйство льсти, воеже вѣровати им лжи, да Суд приимут не вѣровавшии истиннѣ, но благоволиша о неправдѣ». Чти о сем Апостолъ, 27510.
Сей Дионисий, еще не приидох в вѣру Христову, со ученикомъ своим во время распятия Господня бывъ в Солнечнем-граде и видѣ: солнце во тьму преложися и луна – в кровь, звѣзды в полудне на небеси явилися чернымъ видом11. Он же ко ученику глагола: «Или кончина вѣку прииде, или Богъ Слово плотию стражет», понеже не по обычаю тварь видѣ изменену и сего ради бысть в нѣдоумѣнии.
Той же Дионисий пишет о солнечном знамении, когда затмится: есть на небеси пять звѣздъ заблудных, еже именуются луны. Сии луны Богъ положил не в предѣлех, якоже и прочим звѣзды, но обтекаютъ по всему небу, знамение творя или во гнѣвъ, или в милость. Егда заблудница, еже есть луна, подтечет от запада подъ солнце и закроетъ свѣтъ солнечный, и то затмѣние солнцу за гнѣвъ Божий к людям бываетъ. Егда же бывает от востока луна подътекает, и то, по обычаю шествие творяще, закрывает солнце12.
А в нашей Росии бысть затмение солнцу в 162 году перед мором13. Плыл Вольгою-рекою архиепископъ Симеонъ Сибирской14, и в полудне тма бысть, перед Петровым днем недѣли за двѣ; часа с три плачючи у берега стояли. Солнце померче, от запада луна подътекала, являя Богъ гнѣвъ свой к людям. В то время Никонъ-отступник вѣру казилъ и законы церковныя, и сего ради Богъ излиял фиял гнѣва ярости своея на Русскую землю; зѣло моръ великъ былъ, нѣколи еще забыть, вси помним. Паки потом, минувъ годов с четырнатцеть, вдругорядъ затмѣние солнцу было въ Петров постъ: в пяток, въ час шестый, тма бысть, солнце померче, луна от запада же подтекала, гнѣв Божий являя, – протопопа Аввакума, бѣднова горемыку, в то время с прочими в соборной церкви власти остригли15 и на Угрѣше16 в темницу, проклинавъ, бросили.
Вѣрный да разумѣет, что дѣлается в земли нашей за нестроение церковное и разорение вѣры и закона. Говорить о том престанем, в день вѣка познано будет всѣми, потерпим до тѣхъ мѣстъ.
Той же Дионисий пишет о знамении солнца, како бысть при Исусѣ Наввинѣ во Израили, егда Исус сѣкий иноплеменники и бысть солнце противо Гаваона, еже есть на полднях: ста Исус крестообразно, сирѣчь разпростре руце свои, и ста солнечное течение, дондеже враги погуби. Возвратилося солнце к востоку, сирѣчь назад отбѣжало, и паки потече; и бысть во дни том и в нощи тритцеть четыре часа. Понеже в десятый час назад отбѣжало, так в сутках десеть часов прибыло. И при Езекии-царѣ бысть знамение: оттече солнце назад во вторый на десеть часъ дня, и бысть во дни и в нощи тридесять шесть часов17. Чти книгу Дионисиеву, там пространно уразумѣешь.
Он же Дионисий пишет о небесныхъ силах, возвѣщая, како хвалу приносят Богу раздѣляяся деветь чинов на три троицы18. Престоли, херувими и серафими, освящение от Бога приемля, сице восклицают: «Благословена слава от мѣста Господня!» И чрез ихъ преходит освящение на вторую троицу, еже есть господьства, начала, власти. Сия троица, славословя Бога, восклицаютъ: «Аллилуия, аллилуия, аллилуия!» По алъфавиту, «аль» – Отцу, «иль» – Сыну, «уия» – Духу Святому. Григорий Низский толкует: «Аллилуия – хвала Богу». А Василий Великий пишет: «Аллилуия – ангельская рѣчь, человѣчески рещи: слава тѣбѣ, Боже»19. До Василия пояху во церкви ангельския рѣчи: «Аллилуия, аллилуия, аллилуия!» Егда же бысть Василий, и повелѣ пѣти двѣ ангельския рѣчи, а третьюю – человѣческую, сице: «Аллилуия, аллилуия, слава тебѣ, Боже!» У святых согласно, у Дионисия и у Василия: трижды воспѣвающе, со ангелы славим Бога, а не четырежи по римской бляди. Мерско Богу четверичное воспѣвание сицевое: «Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава тебѣ, Боже». Да будет проклят сице поюще, с Никоном и с костелом римским!
Паки на первое возвратимся. Третьяя троица: силы, архангели, ангели, чрез среднюю троицу освящение приемля, поют: «Святъ, святъ, святъ Господь Саваофъ, исполнь небо и земля славы его!»20. Зри: тричислено и се воспѣвание. Пространно Прѣчистая Богородица протолковала о аллилуии, явилась Василию, ученику Ефросина Псковскаго21. Велика во «аллилуии» хвала Богу, а от зломудръствующих досада велика, – по-римски Троицу Святую в четверицу глаголютъ, Духу и от Сына исхождение являютъ22. Зло и проклято се мудрование Богом и святыми! Правовѣрных избави, Боже, сего начинания злаго о Христѣ Исусѣ, Господѣ нашем, емуже слава нынѣ и присно и во вѣки вѣком. Аминь.
Афонасий Великий рече: «Иже хощетъ спастися, прежде всѣхъ подобаетъ ему держати кафолическая вѣра, еяже аще кто целы и непорочны не соблюдает, кромѣ всякаго недоумѣния, во вѣки погибнетъ. Вѣра же кафолическая сия есть: да единаго Бога в Троицѣ и Троицу во единице почитаем, ниже сливающе составы, ниже существо раздѣляюще. Инъ бо есть составъ Отечь, инъ – Сыновей, инъ – Святаго Духа. Но Отчее, и Сыновнее, и Святаго Духа едино Божество, равна слава, соприсносущно величество. Яковъ Отецъ, таковъ Сынъ, таковъ и Духъ Святый». Вѣченъ Отецъ, вѣченъ Сынъ, вѣченъ и Духъ Святый. Не созданъ Отецъ, не созданъ Сынъ, не создан и Духъ Святый. Богъ – Отецъ, Богъ – Сынъ, Богъ – и Духъ Святый. Не три Бози, но един Богъ, не три Несозданнии, но един Несозданный. Равнѣ: Вседержитель – Отецъ, Вседержитель – Сынъ, Вседержитель – и Духъ Святый. По-добнѣ: Непостижимъ Отецъ, Непостижим Сынъ, Непостижим и Духъ Святый. Не три Вседержители, но единъ Вседержитель, един Непостижимый. «И в сей Святѣй Троице ничто-же первое или послѣднее, ничтоже более или мнѣе, но цѣлы три составы и соприсносущны суть себѣ и равны»23. «Особно бо есть Отцу нерождение, Сыну же – рождение, а Духу Святому – исхождение, обще же им Божество и Царство»24.
Нужно бо есть побесѣдовати и о вочеловѣчении Бога Слова к вашему спасению. За благость щедрот излия себе от отеческих нѣдр Сынъ, Слово Божие, в Дѣву чисту богоотроковицу, егда время наставало, и воплотився от Духа Свята и Марии дѣвы вочеловѣчився, нас ради пострадал, и воскресе в третий день, и на небо вознесеся, и сѣде одесную Величествия на высоких, и хощет паки приити судити и воздати комуждо по дѣлом его, его же Царствию нѣсть конца.
И сие смотрение в Бозѣ бысть прежде, да же не создатися Адаму; прежде, да же не вообразитися. Рече Отец Сынови: «Сотворим человѣка по образу нашему и по подобию». И отвѣща другий: «‘Сотворим, Отче, и преступит бо». И паки рече: «О, единородный мой! О, свѣте мой! О, Сынѣ и Слове! О, сияние славы моея! Аще промышляеши созданием своим, подобает ти облещися в тлимаго человѣка, подобает ти по земли ходити, апостолы восприяти, пострадати и вся совершити». И отвѣща другий: «Буди, Отче, воля твоя!» Посем создася Адам, и прочая. Аще хощеши пространно разумѣти, чти «Маргарит», «Слово о вочеловѣчении»25. тамо обращеніи. Аз кратко помянул, смотрение показуя. Сице всяк вѣруяй во нь не постыдится, а не вѣруяй осужден будет и во вѣки погибнет, по вышереченному Афонасию.
Сице аз, протопоп Аввакумъ, вѣрую, сице исповѣдаю, с симъ живу и умираю.
Рождение же мое в нижегороцкихъ предѣлех, за Кудмою рекою, в селѣ Григоровѣ26. Отецъ ми бысть священникъ Петръ27, мати – Мария, инока Марфа. Отецъ мой прилѣжаше пития хмельнова, мати же моя постница и молитвеница бысть, всегда учаше мя страху Божию. Аз же, нѣкогда видѣвъ у сосѣда скотину умершу, в той нощи, воставше, предъ образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мнѣ умереть, и с тѣхъ мѣстъ обыкох по вся нощи молитися.
Потом мати моя овдовѣла, а я осиротѣлъ молод, и от своих соплеменник во изгнании быхом.
Изволила мати меня женить. Аз же Прѣсвятѣй Богородице молихся, да даст ми жену – помощницу ко спасению. И в том же селѣ дѣвица, сиротина же, безпрестанно во церковь ходила, имя ей Анастасия28. Отецъ ея был кузнецъ, именем Марко, богатъ гораздо, а егда умре, послѣ ево вся истощилося. Она же в скудости живяше и моляшеся Богу, да же сочетается за меня совокуплением брачным. И бысть по воли Божии тако.
Посем мати моя отиде к Богу в подвизе велице. Аз же от изгнания преселихся во ино мѣсто29. Рукоположен во дьяконы дватцети лѣт з годом и по дву лѣтех в попы поставлен; живый в попѣхъ осмъ лѣтъ и потом совершен в протопопы православными епископы30; тому дватцеть лѣтъ минуло, и всего тритцеть лѣтъ, какъ священъство имѣю, а от рода на шестой десяток идетъ.
Егда аз в попѣхъ был, тогда имѣлъ у себя детей духовных много, по се время сотъ с пять или шесть будет. Не почивая аз, грѣшный, прилѣжа во церквах, и в домѣхъ, и на распутияхъ, по градом и селам, еще же и во царствующемъ градѣ, и во странѣ Сибирской, проповѣдуя и уча слову Божию, годовъ будет тому с полтретьятцеть.
А егда еще былъ в попѣхъ, прииде ко мнѣ исповѣдатися дѣвица, многими грѣхми обременена, блудному дѣлу и малакии всякой повинна, нача мнѣ, плакавшеся, подробну возвѣщати во церкви, пред Евангелиемъ стоя. Аз же, треокаянный врачь, слышавше от нея, сам разболѣвся, внутрь жгом огнемъ блудным.
И горко мне бысть в той час. Зажегъ три свѣщи и прилѣпилъ к налою, и возложилъ правую руку на пламя, и держалъ, дондеже во мнѣ угасло злое разжежение.
И отпустя дѣвицу, сложа с себя ризы, помолясь, пошелъ в дом свой зѣло скорбенъ; время же яко полнощи. И пришед в свою избу, плакався предъ образом Господним, яко и очи опухли, и моляся прилѣжно, да же отлучит мя Бог от детей духовных, понеже бремя тяшко, не могу носити. И падох на землю на лицы своем, рыдаше горце, и забыхся лежа.
Не вѣмъ какъ плачю, а очи сердечнии при реке Волге. Вижу: пловут стройно два корабля златы, и весла на них златы, и шесты зла-ты, и все злато. По единому кормщику на них сидѣльцов. И я спросилъ: «Чье корабли?» И онѣ отвѣщали: «Лукин и Лаврентиевъ», – сии быша ми духовныя дѣти, меня и дом мой наставили на путь спасения и скончались богоугодне. А се потом вижу третей корабль, не златом украшен, но разными красотами испещренъ, красно, и бѣло, и сине, и черно, и пепелесо, егоже умъ человѣчь не вмѣстит красоты его и доброты; юноша свѣтелъ, на кормѣ сидя, правитъ; бѣжит ко мнѣ из-за Волги, яко пожрати мя хощет. И я вскричал: «Чей корабль?» И сидяй на нем отвѣщал: «Твой корабль. На, плавай на нем, коли докучаешь, и з женою, и з дѣтми». И я вострепетахъ и, сѣдше, разсуждаю, что се видимое и что будетъ плавание.
А се по мале времени, по писанному, «обьяша мя болѣзни смертныя, бѣды адовы обыдоша мя, скорбь и болѣзнь обрѣтох»31. У вдовы начальник отнял дочерь. И аз молих его, да же сиротину возвратит к матери. И онъ, презрѣвъ моление наше, воздвиг на меня бурю, и у церкви, пришед сонмом, до смерти меня задавили. И аз лежал в забыти полчаса и болыни, паки оживе Божиим мановением. Он же, устрашася, отступился мнѣ дѣвицы. Потом научил ево дьяволъ: пришед во церковь, бил и волочил меня за ноги по землѣ в ризах. А я молитву говорю въ то время.
Таже инъ начальник во ино время на мя разсвирѣпел: прибѣжавъ ко мнѣ в дом, бив меня, и у руки, яко пес, огрыз перъсты; и егда наполнилась гортань ево крови, тогда испустилъ из зубовъ своих мою руку и, меня покинувъ, пошел в дом свой. Аз же, поблагодаря Бога, завертѣвъ руку платом, пошел к вечернѣ. И на пути он же наскочил на меня паки со двема пистольми и запалил ис пистоли. И Божиимъ мановением на полке порох пыхнулъ, а пистоль не стрелила. Он же бросил ея на землю и из другия запалил паки. Божия же воля так же учинила: пистоль и та не стрелила. Аз же прилѣжно, идучи, молюсь Богу; осѣнил ево больною рукою и поклонился ему. Онъ меня лаетъ, а я ему говорю: «Благодать во устнѣхъ твоих, Иван Родионович, да будет».
Посем двор у меня отнял, а меня выбил, всево ограбя, и на дорогу хлѣба не дал. В то же время родился сынъ мой Прокопей, что нынѣ сидит с матерью и з братом в землѣ закопан32. Аз же, взяв клюку, а мать – некрещенова младенца, пошли з братьею и з домочадцы, амо же Богъ наставит, а сами, пошедъ, запѣли божественныя пѣсни, евангельскую стихѣру, большим роспѣвом, «На гору учеником идущим за земное Вознесение, предста Господь, и поклонишася ему»33, – всю до конца, а пред нами образы несли. Пѣвцов в дому моем было много, – поюще, со слезами на небо взираем. А провождающии жители того мѣста, мужи, и жены, и отрочата, множество народа, с рыданиемъ, плачюще и сокрушающе мое сердце, далече нас провожали в поле. Аз же, на обычном мѣсте став и хвалу Богу воздав, поучение прочетъ и благословя, насилу в домы ихъ возвратил; а з домашними впред побрели и на пути Прокопья крестили, яко каженика Филиппъ древле34.
Егда же аз прибрел к Москвѣ к духовнику цареву протопопу Стефану35 и к другому протопопу, к Неронову Иванну36, они же обо мнѣ царю извѣстиша, и с тѣхъ мѣстъ государь меня знать почал.
Отцы же з грамотою паки послали меня на старое мѣсто. И я притащился – ано и стѣны разорены моих храминъ. И я паки позавелся, а дьявол и паки воздвигъ бурю. Приидоша в село мое плясовые медвѣди з бубънами и з домрами, и я, грѣшник, по Христѣ ревнуя, изгнал их, и хари и бубны изломал на поле един у многих, и медвѣдей двух великих отнял – одново ушибъ, и паки ожилъ, а другова отпустил в поле. И за сие меня боярин Василей Петрович Шереметев, едучи в Казань на воеводство в судне, браня много, и велелъ благословить сына своего бритобратца37, аз же не благословил, видя любодѣйный образ. И онъ меня велѣлъ в Волгу кинуть; и, ругавъ много, столкали с судна38.
Таже ин начальникъ на мя разсвирѣпѣвъ, приехавъ с людми ко двору моему, стрелял из луковъ и ис пищалей с приступом. А я в то время, запершися, молился ко Владыке: «Господи, укроти ево и примири, имиже вѣси судбами!» Он же побѣжал от двора, гоним Святым Духом.
Таже в нощь ту прибѣжали от него, зовут меня к нему со слезами: «Батюшко-государь, Евфимей Стефанович при кончинѣ и кричит неудобно, бьет себя и охает, а сам говоритъ: “Дайте батька Аввакума, за него меня Богъ наказует!”» И я чаял – обманываютъ меня, ужасеся духъ мой во мнѣ, а се помолил Бога сице: «Ты, Господи, изведый мя из чрева матере моея, и от небытия в бытие мя устроил, аще меня задушатъ, причти мя с митрополитом Филиппомъ Московским39; аще ли зарѣжутъ, и ты, Господи, причти мя з Захариею-пророком40; аще ли посадят в воду, и ты, Владыко, яко и Стефана Пермъскаго41, паки свободишь мя!», – и, молясь, поехал в дом к нему, Евфимею.
Егда же привезоша мя на двор, выбѣжала жена ево Неонила, ухватила меня под руку, а сама говоритъ: «Поди-тко, государь наш батюшко, поди-тко, свѣтъ наш кормилец!» И я сопротив: «Чюдно! Давеча был блядин сынъ, а топерва – батюшко миленькой. Больше у Христатово остра шелепуга та, скоро повинился мужъ твой!»
Ввела меня в горницу – вскочил с перины Евфимей, пал пред ногама моима, вопитъ неизреченно: «Прости, государь, согрѣшил пред Богомъ и пред тобою!»42, а сам дрожит весь. Ия ему сопротиво: «Хощеши ли впредь цѣлъ быти?» Он же, лежа, отвѣщал: «Ей, честный отче!» И я реклъ: «Востани! Богъ простит тя». Он же, наказанъ гораздо, не могъ сам востати. И я поднял и положил ево на постѣлю, и исповѣдал, и маслом священным помазал; и бысть здрав, так Христос изволилъ. И з женою быша мнѣ дѣти духовные, изрядныя раби Христовы. Так-то Господь гордымъ противится, смиренным же даетъ благодать43.
Помале инии паки изгнаша мя от мѣста того. Аз же сволокся к Москвѣ, и Божиею волею государь меня велѣлъ поставить въ Юрьевецъ Повольской44 в протопопы. И тут пожил немного – только осмъ недѣль. Дьявол научил попов и мужиков и бабъ: пришли к патриархову приказу, гдѣ я духовныя дѣла дѣлал, и, вытаща меня ис приказу собранием, – человѣкъ с тысящу и с полторы их было, – среди улицы били батожьемъ и топтали. И бабы были с рычагами, грѣхъ ради моих убили замертва и бросили под избной угол. Воевода с пушкарями прибѣжал и, ухватя меня, на лошеди умчалъ в мое дворишко и пушкарей около двора поставил. Людие же ко двору приступаютъ, и по граду молва велика. Наипаче же попы и бабы, которыхъ унималъ от блудни, вопятъ: «Убить вора, блядина сына, да и тѣло собакам в ровъ кинем!»
Аз же, отдохня, по трех днях ночью, покиня жену и дѣти, по Волге сам-третей ушел к Москвѣ. На Кострому прибѣжал – ано и тутъ протопопа же Даниила изгнали45. Охъ, горе! Вездѣ от дьявола житья нѣтъ!
Приехал к Москвѣ, духовнику показался. И онъ на меня учинился печален: «На што-де церковь соборную покинулъ?» Опять мнѣ другое горе! Таже царь пришелъ ночью к духовнику благословитца, меня увидял – тутъ опять кручина: «На што-де город покинулъ?» А жена, и дѣти, и домочадцы, человѣкъ з дватцеть, въ Юрьевце остались, невѣдомо – живы, невѣдомо – прибиты. Тутъ паки горе!
Посем Никонъ, другъ наш, привез из Соловковъ Филиппа митрополита46. А прежде его приезду Стефанъ духовник моля Бога и постяся седмицу з братьею – и я с ними тут же – о патриархѣ, да же дастъ Богъ пастыря ко спасению душъ нашихъ47. И с митрополитом Корнилиемъ Казанским48, написав челобитную49 за руками, подали царю и царицѣ – о духовникѣ Стефане, чтоб ему быть в патриархах. Он же не восхотѣлъ самъ и указал на Никона митрополита. Царь ево и послушал. И пишет к нему послание навстрѣчю: «Пресвященному Никону, митрополиту Новгороцкому и Великолуцкому и всеа Русии, радоватися», и прочая.
Егда же приехал, с нами – яко лис: челом да здорово, вѣдает, что быть ему в патриархах, и чтоб откуля помѣшка какова не учинилась. Много о тѣхъ козняхъ говорить! Царь ево на патриаршество зоветъ, а онъ бытто не хочетъ. Мрачил царя и людей, а со Анною по ночам укладываютъ50, как чему быть; и, много пружався, со дьяволом, взошелъ на патриаршество Божиимъ попущением, укрепя царя своим кознованиемъ и клятвою лукавою.
Егда бысть патриархом, такъ нас и в Крестовую51 не стал пускать. А се и ядъ отрыгнулъ: в Постъ великой прислал память52 казанъскому протопопу Иванну Неронову, а мнѣ был отецъ духовной, я все у нево и жил в церквѣ53, егда куцы отлучится – ино я вѣдаю церковь. И к мѣсту говорили, на дворецъ ко Спасу54, да я не порадѣлъ, или Богъ не изволил. Народу много приходило х Казанъской, такъ мнѣ любо – поучение чол безпрестанно. Лишо о братьях родных духовнику поговорил, и онъ их в Верху у царевны, а инова при себѣ жить устроил, попом в церквѣ55. А я самъ, идѣже людие снемлются, там слово Божие проповѣдал, да при духовникове благословении и Неронова Иванна тѣшил надъ книгами свою грѣшную душу о Христѣ Исусѣ. Таже Никонъ в памети пишет: год и число, «по преданию-де святых отецъ и апостолъ, не подобает метания творити на колѣну, но в пояс бы вам класть поклоны, еше же и трема перъсты бы есте крестились».
Мы, сошедъшеся со отцы, задумалися: видим, яко зима хощетъ быти, сердце озябло, и ноги задрожали. Неронов мнѣ приказал церковь, а сам скрылся в Чюдов56, седмицу един в полатке молился. И там ему от образа глас бысть во время молитвы: «Время приспѣ страдания, подобает вам неослабно страдати!» Он же мнѣ, плачючи, сказал, таже епископу Коломенскому Павлу, егоже Никон напослѣдок в новогороцкихъ предѣлех огнемъ зжегъ57; потом Даниилу, Костромъскому протопопу и всей сказал братье. Мы же з Данилом, ис книгъ написавъ выписки о сложении перъстъ и о поклонѣехъ, и подали государю58, много писано было. Онъ же, не вѣмъ гдѣ, скрыл их, мнит ми ся – Никону отдал.
Послѣ тово вскорѣ, схватавъ Никонъ Даниила, остриг при царѣ за Тверскими вороты59; и, содравъ однарятку60, ругавъ, отвел в Чюдов, в хлѣбню, и, муча много, сослал в Астрахань. Возложа на главу там ему венец терновъ, в земляной тюрмѣ и уморили. Таже другова, Темниковского протопопа Даниила61, посадил у Спаса на Новом62, Таже – Неронова Иванна: в церквѣ скуфью снял и посадил в монастырѣ Симанове и послѣ на Вологду сослалъ въ Спасов Каменной монастырь, потом в Кольской острогъ63.
Посем меня взяли от всенощнаго Борис Нелединской со стрельцами; человѣкъ со мною с шестьдесят взяли64; их в тюрму отвели, а меня на патриархове дворѣ на чепъ посадили ночью. Егда же розсвѣтало, в день недѣлный, посадили меня на телѣгу, ростеня руки, и везли от патриархова двора до Андроньева монастыря65 и тутъ на чепи кинули в темную полатку, ушла вся в землю. И сидѣлъ три дни, ни ел, ни пил; во тьмѣ сидя, кланялъся на чепи, не знаю – на восток, не знаю – на запад. Никто ко мнѣ не приходил, токмо мыши и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно.
Таже во исходѣ третьихъ суток захотѣлося есть мнѣ, послѣ вечерни ста предо мною, не вѣмъ – человѣкъ, не вѣмъ – ангелъ, и по се время не знаю, токмо в потемках, сотворя молитву и взявъ меня за плечо, с чепью к лавке привел и посадил, и лошку в руки далъ и хлѣбца немношко, и штецъ дал похлебать, – зѣло прикусны, хороши, – и реклъ мнѣ: «Полно, довлѣетъ ти ко укреплению!» И не стало ево. Двери не отворялись, а ево не стало. Чюдно только человѣкъ, а что же – ангелу ино вездѣ не загорожено.
Наутро архимарит з братьею вывели меня, журят мнѣ: «Что патриарху не покорисся?» И я от Писания ево браню. Сняли большую чепь и малую наложили. Отдали чернъцу под началъ, велѣли в церковь волочить. У церкви за волосы дерутъ, и под бока толкаютъ, и за чепъ торъгаютъ, и в глаза плюютъ. Богъ их простит в сий вѣкъ и в будущий, не их то дѣло, но дьявольское.
Тутъ же в церквѣ у них былъ нашъ братъ подначалной ис Хамовниковъ, пьянъства ради преданъ бѣсомъ, и гораздо бѣсился, томим от бѣсовъ. Аз же зъжалихся, грѣешной, об немъ: в обѣдню, стоя на чепи, Христа-свѣта и Прѣчистую Богородицу помолил, чтоб ево избавили от бѣсовъ. Господь же ево, бѣднова, и простил, бѣсовъ отгналъ. Он же целоуменъ сталъ, заплакавъ и ко мнѣ поклонился до земли; я ему заказал, чтоб про меня не сказал никому; людие же не догадалися о семъ, учали звонить и молебенъ пѣть.
Сидѣлъ я тутъ четыре недѣли. Послѣ меня взяли Логина, протопопа Муромского66. В соборной церквѣ при царѣ остриг ево овчеобразный волкъ в обѣдню во время переноса, егда снялъ у архидьякона со главы дискос и поставил на прѣстоле Тѣло Христово. А с чашею архимаритъ чюдовъской Ферапонтъ внѣ олътаря при дверехъ царъских стоял. Увы, разсѣчения Тѣлу и Крови Владыки Христа! Пущи жидовъскаго дѣйства игрушка сия! Остригше, содрали с Логина однарятку и кафтан. Он же разжегъся ревностию Божественнаго огня, Никона порицая, и чрез порог олътарной в глаза ему плевалъ, и, распоясався, схватя с себя рубашку, во олъ-тарь Никону в глаза бросил. Чюдно! Растопоряся рубашка покрыла дискос с Тѣлом Христовым и прѣстолъ. А в то время и царица в церквѣ была.
На Логина же возложа чепь и потаща ис церкви, били метлами и шелепами до Богоявленскаго монастыря67, и тутъ кинули нагова в полатку и стрельцов на карауле накрѣпко учинили. Ему же Богъ в ту нощъ дал новую шубу да шапку. И наутро Никону сказали. Он же, разсмѣявся, говорит: «Знаю-су я пустосвятовъ тѣхъ!» И шапку у него отнялъ, а шубу ему оставил.
Посем паки меня из монастыря водили пѣшева на патриарховъ двор, по-прежнему ростяня руки. И стязався много со мною, паки отвели так же. Таже въ Никитин день68 со кресты ходъ, а меня паки противъ крестов везли на тѣлеге. И привезли к соборной церкви стричь меня так же, и держали на пороге в обѣдню долго. Государь сошел с мѣста и, приступи к патриарху, упросил у нево. И, не стригше, отвели в приказ Сибирской69 и отдали дьяку Третьяку Башмаку, что нынѣ с нами стражет же за православную вѣру, – Саватѣй-старецъ70, сидитъ в земляной тюрмѣ у Спаса на Новомъ. Спаси ево, Господи, и тогда мнѣ добро дѣлал.
Таже послали меня в Сибирь в ссылку з женою и дѣтми71. И колико дорогою было нужды, тово всево говорить много, развѣ малое помянуть. Протопопица родила младенца, больную в телѣге и потащили; до Тобольска три тысячи верстъ, недѣль с тринатцеть волокли телѣгами и водою, и санми половииу пути.
Архиепископъ Симеонъ Сибирской – тогда добръ был, а нынѣ учинился отступникъ – устроилъ меня в Тобольске к мѣсту72. Тут, живучи у церкви, великия беды постигоша мя. Пятья «слова государевы» сказывали на меня73 в полтора годы. И един нѣкто, двора архиепископля дьякъ Иван Струна, тот и душею моею потряс; сице. Владыка сьехал к Москвѣ, а онъ без нево, научением бѣсовским и кознями, напалъ на меня, – церкви моея дьяка Антония захотѣлъ мучить напрасно74. Он же Антон утече у него и прибѣжал ко мнѣ во церковь. Иван же Струна, собрався с людьми, во ин день прииде ко мнѣ во церковь – а я пою вечерню – и, вскоча во церковь, ухватил Антона на крылосѣ за бороду. А я в то время затворил двери и замкнулъ, никово не пустилъ в церковь. Один онъ Струна вертится, что бѣсъ, во церквѣе. И я, покиня вечерню, со Антоном, посадя ево на полу, и за мятеж церковной постегалъ ременем нарочито-таки. А прочий, человѣекъ з дватцеть, вси побѣгоша, гоними духом. И покаяние принявъ от Струны, к себѣ отпустил ево паки. Сродницы же ево, попы и чернцы, весь град возмутили, како бы меня погубить. И в полнощи привезли сани ко двору моему, ломилися в ызбу, хотя меня, взяв, в воду свести. И Божиимъ страхом отгнани быша и вспять побѣгоша.
Мучился я, от них бѣгаючи, с мѣсяцъ. Тайно иное в церквѣ начюю, иное уйду к воеводѣ75. Княиня меня в сундукъ посылала: «Я-де, батюшко, нат тобою сяду, каъ-де придут тебя искать к намъ». И воевода от нихъ, мятежниковъ, боялся, лишо плачетъ, на меня глядя. Я уже и в тюрму просилъся, – ино не пустят. Таково-то время было. Провожал меня много Матфей Ломковъ76, иже и Митрофан в чернцах именуем, на Москвѣ у Павла митрополита77 ризничим был, как стригъ меня з дьяконом Афонасьемъ78. Тогда в Сибири при мнѣ добръ был, а опослѣ проглотил ево дьявол: отступил же от вѣры.
Таже приехал с Москвы архиепископъ, и мнѣ мало-мало лехче стало. Правильною виною посадил ево, Струну, на чепь за сие: человѣекъ нѣкий з дочерью кровосмѣшение сотворилъ, а онъ Струна, взявъ с мужика полтину, не наказавъ, отпустил. И владыка ево за сие сковать приказал и мое дѣло тут же помянулъ79. Он же Струна ушел к воеводам в приказ и сказалъ «слово и дѣло государево» на меня80. Отдали ево сыну боярскому лутчему Петру Бекѣтову за приставъ81. Увы, Петру погибель пришла! Подумавъ, архиепископъ по правилам за вину кровосмѣшения стал Струну проклинать в церквѣ. Петръ же Бекѣтов в то время, браня архиепископа и меня, изшедъ ис церкви, взбѣсился, идучи ко двору, и падъ, издше, горкою смертию умре. Мы же со владыкою приказали ево среди улицы вергнути псом на снедѣние, да же гражданя оплачют ево согрѣшение; и сами три дни прилѣжне Божеству стужали об нем, да же отпустится ему в день вѣка от Господа: жалѣя Струны, таковую пагубу приял; и по трех днех тѣло его сами честнѣ погребли. Полно тово говорить плачевнова дѣла.
Посем указ пришел: велено меня ис Тобольска на Дѣну вести82, за сие, что браню от Писания и укаряю Никона-еретика. В то же время пришла с Москвы грамотка ко мнѣ: два брата, жили кои у царя в Верху, умерли з женами и дѣтми83. И многия друзья и сродники померли жо в мор. Излиял Богъ фиял гнѣва ярости своея на всю Русскую землю за раскол церковный, да не захотѣли образумитца. Говорилъ прежде мора Нероновъ царю и прорицал три пагубы: моръ, мечь, разделение84, – вся сия збылось во дни наша, – а опослѣ и самъ, милой, принужденъ трема перъсты креститца. Таково-то попущено дѣйствовать антихристову духу, по Господню речению, «Аще возможно ему прельстити и избранныя»85 и «Всяк мняйся стояти да блюдется, да ся не падет»86. Што тово много и говорить! Того ради, неослабно ища правды, всяк, молися Христу, а не дряхлою душею о вѣре прилежи, так не покинет Богъ. Писанное внимай: «Се полагаю в Сионѣ камень претыканию и камень соблазну»87, вси отступницы, временных ради о вѣчном не брегутъ, просто молыть, дьяволю волю творят, а о Христовѣ повелѣнии не радят. Но аще кто преткнется о камень сей – сокрушится, а на немже камень падет, сотрыетъ его. Внимай-ко гораздо и слушай, что пророкъ говорит со апостолом: что жорновъ дурака в муку перемелет; тогда узнает всяк высокосердечный, какъ скакать по холмам перестанет, сирѣчь от всѣхъ сихъ упразнится.
Полно тово. Паки стану говорить, какъ меня по грамотѣ ис Тобольска повезли на Дѣну.
А егда в Енисѣйск привезли, другой указ пришел: велено в Дауры вести, тысящъ з дватцеть от Москвы и болыни будет. Отдали меня Афонасью Пашкову88: онъ туды воеводою посланъ, и, грѣхъ ради моих, суровъ и безчеловѣчен человѣкъ, бьет безпрестанно людей, и мучит, и жжетъ. И я много разговаривал ему, да и сам в руки попал, а с Москвы от Никона ему приказано мучить меня.
Поехали из Енисейска89. Егда будем в Тунгуске-рекѣ90, бурею дощеникъ мой в воду загрузило, налилъся среди реки полон воды, и парус изорвало, одны полубы наверху, а то все в воду ушло. Жена моя робятъ кое-как вытаскала наверхъ, а сама ходит простоволоса, в забытии ума, а я, на небо глядя, кричю: «Господи, спаси! Господи, помози!» И Божиего волею прибило к берегу нас. Много о том говорить. На другом дощенике двух человѣкъ сорвало, и утонули в водѣ. Оправяся мы, паки поехали впред.
Егда приехали на Шаманской порогъ91, навстрѣчю нам приплыли люди, а с ними двѣ вдовы, – одна лѣт въ 60, а другая и болши, пловутъ пострищися въ монастырь. А онъ Пашков сталъ их ворочать и хощет замужъ отдать. И я ему сталъ говорить: «По правилам не подабает таковых замужъ давать». Он же, осердясь на меня, на другомъ пороге стал меня из дощеника выбивать: «Еретик-де ты, для-де тебя дощеник худо идетъ, поди-де по горам, а с казаками не ходи!»
Горе стало! Горы высокие, дебри непроходимые, утес каменной яко стена стоит, и поглядѣть – заломя голову. В горах тѣхъ обрѣтаются змеи великие, в них же витают гуси и утицы – перие красное; тамо же вороны черные, а галки – сѣрые, измѣнено при русских птицах имѣютъ перие. Тамо же орлы, и соколы, и кречата, и курята индѣйские, и бабы, и лебеди, и иные дикие, многое множество, птицы разные. На тѣх же горах гуляютъ звѣри дикие: козы, и олени, и зубри, и лоси, и кабаны, волки и бараны дикие; во очию нашу, а взять нельзя. На тѣ же горы Пашков выбивал меня со звѣрми витать.
И аз ему малое писанейце послал92, сице начало: «Человѣче, убойся Бога, сѣдящаго на херувимѣхъ и призирающаго в бездны, егоже трепещутъ небо и земля со человѣки и вся тварь, токмо ты един презираешь и неудобство к нему показуешь», и прочая там многонько писано. А се – бегутъ человѣкъ с пятьдесят, взяли мой дощеник и помчали к нему, версты с три от него стоялъ: я казакам каши с маслом наварил да кормлю их, и онѣ, бедные, и едят и дрожатъ, а иные плачютъ, глядя на меня, жалѣя по мнѣ.
Егда дощеникъ привели, взяли меня палачи, привели передъ него. Он же и стоит, и дрожитъ, шпагою потъпершись. Начал мнѣ говорить: «Поп ли ты или роспоп?» И я отвѣщал: «Аз есмъ Аввакумъ протопоп. Что тебѣ дело до меня?» Он же, рыкнувъ яко дивий звѣрь, и ударил меня по щоке, и паки по другой, и в голову еще; и збилъ меня с ногъ, ухватил у слуги своево чеканъ93 и трижды по спинѣ, лежачева, зашибъ, и, разболокши, – по той же спинѣ семьдесят два удара кнутом. Палач бьет, а я говорю: «Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помогай мнѣ!» Да тожъ, да тожъ говорю. Так ему горько, что не говорю: «Пощади!» Ко всякому удару: «Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помогай мнѣ!» Да о серединѣ-той вскричалъ я: «Полно бить-тово!» Такъ онъ велѣлъ перестать. И я промолыл ему: «За что ты меня бьешь, вѣдаешь ли?» И онъ паки велѣлъ бить по бокам. Спустили. Я задрожалъ да и упал; и он велѣлъ в казенной дощеник оттащить. Сковали руки и ноги и кинули на беть94.
Осень была, дождь на меня шелъ и в побои, и в нощъ. Как били, так не больно было с молитвою-тою, а лежа на умъ взбрело: «За что ты, Сыне Божий, попустил таково больно убить-тово меня? Я веть за вдовы твои сталъ! Кто даст судию между мною и тобою! Когда воровалъ, и ты меня такъ не оскорблялъ, а нынѣ не вѣмъ, что согрѣшил!» Бытто доброй человѣкъ, другой фарисей, погибельный сынъ, з говенною рожею праведником себя наменилъ да со Владыкою, что Иевъ непорочной, на судъ95. Да Иевъ хотя бы и грѣшенъ, ино нелзя на него подивить, внѣ Закона живый, Писания не разумѣлъ, в варъваръской землѣ живя, аще и того же рода Авраамля, но поганова колѣна. Внимай: Исаакъ Авраамович роди сквернова Исава, Исавъ роди Рагу ил а, Рагуилъ роди Зара, Зара же – праведнаго Иева96. Вотъ смотри, у ково Иеву добра научитца, – всѣ прадеды идолопоклонники и блудники были. Но от твари Бога уразумѣвъ, живый праведный непорочно и, въ язвѣ лежа, изнесе глаголъ от недоразумѣния и простоты сердца: «Изведый мя ис чрева матере моея, кто дастъ судию между мною и тобою, яко тако наказуеши мя; ни аз презрѣхъ сироты и вдовицы, от острига овецъ моихъ плещи нищих одѣвахуся»97. И сниде Богъ к нему, и прочая. А я таковая же дерзнухъ от коего разума? Родихся во Церквѣ, на Законѣ почиваю, Писанием Ветхаго и Новаго Закона огражденъ, вожда себя помышляю быти слепымъ, а самъ слѣпъ извнутръ. Какъ дощеник-отъ не погряз со мною! Стало у меня в тѣ поры кости-те щемить и жилы-те тянуть, и сердце зашлось, да и умирать стал. Воды мнѣ в ротъ плеснули, так вздохнул да покаялъся пред Владыкою, да и опять перестало все болѣть.
Наутро кинули меня в лотку и напред повезли. Егда приехали к порогу Падуну Большому98, – река о томъ мѣсте шириною с версту, три залавка гораздо круты, аще не воратами што попловет, ино в щепы изломает. Меня привезли под порог: сверху дождь и снѣгъ, на плечах одно кафтанишко накинуто просто, льет по спинѣ и по брюху вода. Нужно было гораздо. Из лотки вытащили, по каменью, скована, около порога тово тащили. Да уж к тому не пяняю на Спасителя своего, но пророком и апостолом утѣшаюся, в себѣ говоря: «Сыне, не пренемогай наказаниемъ Господним, ниже ослабѣй, от него обличаем. Егоже любит Богъ, того и наказует. Биет же всякаго сына, егоже приемлет. Аще наказание терпите, тогда яко сыномъ обрѣтается вамъ Богъ. Аще ли без наказания приобщаетеся ему, то выблядки, а не сынове есте»99.
Таже привезли в Брацкой острог100 и кинули в студеную тюрму, соломки дали немношко. Сидѣл до Филипова посту в студеной башне. Там зима в тѣ поры живет, да Богъ грѣлъ и без платья всяко. Что собачка, в соломе лежу на брюхе: на спинѣ-той нельзя было. Коли покормят, коли нѣтъ. Есть-тово послѣ побой тѣхъ хочется, да ветьсу неволя то есть: как пожалуют – дадутъ. Да безчинники ругались надо мною: иногда одново хлѣбца дадутъ, а иногда ветчинки одное не вареной, иногда масла коровья, без хлѣба же. Я-таки, что собака, так и емъ. Не умывалъся веть. Да и кланятися не смогъ, лише на крестъ Христовъ погляжу да помолитвую. Караулщики по пяти человѣкъ одаль стоят. Щелъка на стенѣ была, – собачка ко мнѣ по вся дни приходила, да поглядит на меня. Яко Лазаря во гною у вратѣхъ богатаго пси облизаху гной его101, отраду ему чинили, тако и я со своею собачкою поговаривал. А человѣцы далече окрестъ меня ходят и поглядѣть на тюрму не смѣютъ. Мышей много у меня было, я их скуфьею бил: и батошка не дали; блох да вшей было много. Хотѣлъ на Пашкова кричать: «Прости!», да сила Божия возбранила, велено терпѣть.
В шестую недѣлю послѣ побой перевелъ меня в теплую избу, и я тутъ с аманатами102 и с собаками зимовал скован. А жена з дѣтми верстъ з дватцеть была сослана от меня. Баба ея Ксенья мучи, браня зиму ту там, в мѣсте пустом.
Сынъ Иванъ еще невелик былъ, прибрел ко мнѣ побывать послѣ Христова Рожества, и Пашковъ велѣлъ кинуть в студеную тюрму, гдѣ я преже сидѣлъ. Робячье дѣло – замерзъ было тутъ; сутки сидѣлъ, да и опять велѣлъ к матерѣ протолкать; я ево и не видал. Приволокся – руки и ноги ознобил.
На весну паки поехали впред. Все разорено: и запас, и одежда, и книги – все растащено. На Байкалове море паки тонул. По рекѣ по Хилку103 заставилъ меня лямку тянуть; зѣло нуженъ ходъ ею былъ: и поесть нѣколи было, нежели спать; целое лѣто бились против воды. От тяготы водяныя в осень у людей стали и у меня ноги пухнуть и животъ посинялъ, а на другое лѣто и умирать стали от воды. Два лѣта бродилъ в водѣ, а зимами волочился за волоки чрез хрепты104.
На том же Хилъке в третье тонул. Барку от берегу оторвало; людские стоятъ, а меня понесло; жена и дѣти остались на берегу, а меня сам-другъ с кормщиком понесло. Вода быстрая, переворачивает баръку вверхъ дномъ и паки полубами, а я на ней ползаю и кричю: «Владычице, помози! Упование, не погрузи!» Иное ноги в водѣ, а иное выползу наверх. Несло с версту и болыни, да переняли; все розмыло до крохи. Из воды вышедъ, смеюсь, а люди те охаютъ, глядя на меня, платье-то по кустамъ вѣшаютъ. Шубы шелковые и кое-какие бездѣлицы-той было много еще в чемоданах да в сумах – с тѣхъ мѣстъ все перегнило, наги стали.
А Пашков меня же хотѣлъ бить: «Ты-де надъ собою дѣлаешь на смѣхъ». И я-су, в кустъ зашедъ, ко Богородице припалъ: «Владычице моя, Пресвятая Богородице, уйми дурака тово, и так спина болитъ!» Так Богородица-свѣтъ и уняла – стал по мнѣ тужить.
Доехали до Иръгеня-озера105. Волокъ тутъ, стали волочитца. А у меня работников отнялъ; инымъ нанятца не велитъ. А дѣти были маленьки: таскать нѣ с кѣмъ, одинъ бедной протопоп. Здѣлал нарту и зиму всю за волок бродилъ. У людей и собаки в подпряшках, а у меня не было одинова, лишо двухъ сынов, – маленьки еще были Иванъ и Прокопей, тащили со мною, что кобельки, за волок нарту. Волокъ – веръстъ со сто; насилу, бѣдные, и перебрели. А протопопица муку и младенца за плечами на себѣ тащила. А дочь Огрофена брела-брела да на нарту и взвалилась, и братья ея со мною помаленку тащили. И смѣх и горе, как помянутся дние оны: робята-тѣ изнемогутъ и на снѣгъ повалятся, а мать по кусочку пряничка имъ дастъ, и онѣ, сьедши, опять лямку потянутъ.
И кое-какъ перебилися волок да подъ сосною и жить стали, что Авраамъ у дуба Мамъврийска106. Не пустил нас и в засѣку Пашковъ сперва, дондѣже натѣшился; и мы недѣлю-другую меръзли подъ сосною с робяты, одны кромѣ людей на бору; и потом в засѣку пустилъ и указал мнѣ мѣсто. Такъ мы с робяты огородились, балаганецъ здѣлавъ, огонь курили. И как до воды домаялись весною, на плотах поплыли на низ по Ингодѣ-реке; от Тобольска четвертое лѣто.
Лѣсъ гнали городовой и хоромной, есть стало нѣчева, люди стали мереть з голоду и от водяныя бродни. Река песчаная, засыпная, плоты тяжелые, приставы немилостивые, палки большие, батоги суковатые, кнуты острые, пытки жестокие, огонь да встряска. Люди голодные, лишо станут бить, ано и умретъ, и без битья насилу человѣкъ дышитъ. С весны по одному мешку солоду дано на десеть человѣкъ на все лѣто, да-петь работай, никуды на промыслъ не ходи. И веръбы, бѣдной, в кашу ущипать збродит – и за то палъкою по лбу: «Не ходи, мужикъ, умри на работѣ». Шесть сотъ человѣкъ было, всѣхъ так-то перестроилъ. Охъ, времени тому, не знаю, какъ умъ у него изступил!
Однарятка московская жены моея не згнила, по-рускому Рублевъ в полтретьятцеть, а по тамошнему и больши. Дал нам четырѣ мешка ржи за нея, и мы с травою перебивались. На Нерче-реке всѣ люди з голоду померли, осталось небольшое мѣсто. По степямъ скитаяся и по лѣсу, траву и корение копали, а мы с ними же, а зимою сосну. Иное кобылятины Богъ дастъ, а иное от волковъ пораженных зверей кости находили и, что у волка осталось, то мы глодали; а иные и самыхъ озяблых волковъ и лисиц ели.
Два у меня сына в тѣхъ умерли нуждах107. Невелики были, да однако дѣтки. Пускай их, негдѣ ся дѣнутъ. А с прочими, скитающеся наги и боси по горам и по острому камению, травою и корением перебивались. И сам я, грѣшной, причастенъ мясам кобыльим и мертвечьим по нужде. Но помогала нам по Христѣ боляроня, воеводъская сноха Евдокѣя Кириловна108
