Читать онлайн 1918 год бесплатно
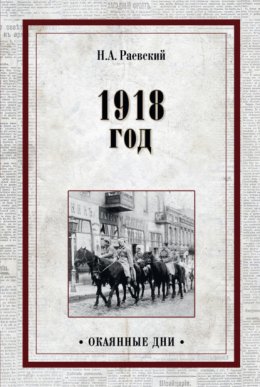
За подготовку к изданию этой книги наследники Н. А. Раевского выражают благодарность Дарье Болотиной, Алексею Акимову, Анастасии Кондратьевой, Владимиру Грицаю, Дмитрию Толмачеву, Андрею Воробьеву и Ольге Леонидовне Коробовой, а также руководству и сотрудникам Государственного архива Российской Федерации
* * *
© Раевский Н. А., наследники, 2020
© Государственный архив Российской Федерации, 2020
© ООО «Издательство «Вече», 2020
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020
Об авторе
Николай Алексеевич Раевский родился 12 июля 1894 года в городе Вытегре Олонецкой губернии (ныне Вологодской области) в семье судебного следователя Петрозаводского окружного суда.
По отцовской линии Николай Алексеевич принадлежал к одному из дворянских родов Петербургской губернии. Дворянское достоинство было пожаловано в 1848 году его прадеду Николаю Федоровичу Раевскому.
Алексей Сергеевич Раевский, отец будущего писателя, успешно окончив юридический факультет Санкт-Петербургского университета, всю свою жизнь служил по гражданскому судебному ведомству. Мать Николая Алексеевича, Зинаида Герасимовна, происходила из олонецкой ветви старинного дворянского рода Пресняковых.
Николай Алексеевич на часто задаваемый вопрос, принадлежит ли его род к знаменитому дворянскому роду генерала Раевского, отвечал, что не принадлежит.
Вот как он сам рассказывал о своих предках: «Были среди них и соборные протоиереи, и знаменитый изобретатель Кулибин, которого некоторые считают техническим гением, и скромные судебные деятели, и лица, занимавшие высокие посты по судебному ведомству. Был дедушка, окончивший Александровский лицей, и дедушка, по его любимому выражению, учившийся будто бы на медные деньги. Была прабабушка – очень знатная полька, одна из бабушек – ученица Гоголя, другая – известная попадья, по происхождению карелка… контрасты среди них очень большие. Обер-прокурор Сената и казненный народоволец Андрей Пресняков, артистка Художественного театра Раевская, знаменитая балерина Преображенская и брат бабушки Пресняковой, постригшийся в монахи. Акцизный надзиратель и его брат, старший председатель судебной палаты; ученый-археолог, известный историк Пресняков – разные были люди…»
Одно из самых ранних воспоминаний детства Коленьки Раевского было связано с его прабабушкой Софией Марковой, у которой он гостил в Петербурге в 1899 году. На всю жизнь запомнил пятилетний мальчуган ее слова: «Вот, Колечка, когда ты подрастешь, то вспомни то, что я рассказываю тебе сейчас. Когда мне было 16 лет, на одном балу я видела Александра Сергеевича Пушкина, а моим учителем в Патриотическом институте благородных девиц был Николай Васильевич Гоголь. Когда подрастешь, узнаешь, кто были эти великие люди»[1]. Слова эти были как знак судьбы, и Раевский пронес по жизни воспоминание о том разговоре со своей прабабушкой. Имя Пушкина осветило всю творческую жизнь Николая Алексеевича, как будто таинственным и непостижимым образом служило ему «оберегом», и даже, возможно, спасло однажды от смерти – но об этом позже.
В 1902 году семья Раевских переехала из Малой Вишеры, где в ту пору служил отец, в Подольскую губернию. Среднее образование Коля Раевский получил в Каменец-Подольской классической гимназии, которую окончил с золотой медалью в 1913 году. В выборе будущего рода деятельности он нисколько не сомневался. Страсть к энтомологии проснулась у него еще в раннем детстве.
Интерес был сильный и серьезный. Об этом говорит и тот факт, что он самостоятельно начал осваивать латынь еще до поступления в гимназию – чтобы читать латинские названия насекомых. Во многом такому научному, глубокому и дисциплинированному подходу способствовало и общение со старшими товарищами по увлечению, их благотворное влияние сыграло большую роль в становлении характера Коли Раевского и его отношения к научной работе. Николай Алексеевич с глубокой признательностью вспоминал те вечера, которые они «просиживали за определителем жуков Рейтера» – такие скучные для окружающих, но такие значимые и исполненные смысла для начинающих исследователей.
Именно это, уже недетское к тому времени увлечение, приводит Николая Раевского на Естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета.
Успешно занимаясь в университете, Николай Алексеевич одновременно успевает работать в энтомологических фондах Зоологического музея Императорской Академии наук, благодаря чему уже после окончания первого курса он смог опубликовать две научные статьи в весьма престижном научном журнале.
Начавшаяся Первая мировая война резко меняет жизненный путь студента Раевского. О тревожных событиях, послуживших поводом для начала войны он узнаёт находясь в научной экспедиции в Карпатах, где собирает биоматериал для своей энтомологической юнкера.
Сначала казалось, что военные действия закончатся быстрой и безусловной победой русского оружия, поэтому свою учебу в университете студент Раевский решает не прерывать. Но когда становится понятно, что все очень серьезно и война затягивается, Николай Алексеевич принимает судьбоносное для себя решение пойти добровольцем в армию. И вот, окончив четыре университетских семестра, 1 мая 1915 года, он поступает в Михайловское артиллерийское училище – сменив студенческую тужурку на гимнастерку курсанта.
Из воспоминаний Раевского: «Настало время прощаться. Бабушка была серьезной и печальной. У тети Сони задрожали уголки рта. Дедушка обнял меня и погладил по голове, чего раньше никогда не делал. У меня екнуло сердце. Все-таки я прожил у них целых два года. Дядя Саша, уходя утром на службу, крепко пожал мне руку, но ничего не сказал. Горничная пожелала мне счастья. Ну, все! Выхожу в переднюю, спускаюсь в вестибюль, швейцар тоже желает мне всего хорошего. Еду. ‹…› Первая военная ночь прошла неспокойно. Я долго не мог заснуть. Большая комната, в которой временно поместили новичков, была проходной, и до самой полуночи то и дело слышался звон шпор. Это возвращались отпускные юнкера старшего курса. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь – звон мелодичный я, опять-таки, знал уже, что шпоры надо будет купить у знаменитого мастера Савельева. Иначе михайловцам нельзя – традиция. Матрац толстый, но жесткий, одеяло теплое, но колючее – все не как дома. Ну что же, надо приспособляться. Я заснул»[2].
По окончании восьмимесячного ускоренного курса, 1 ноября 1915 года, Николая Раевского «по высочайшему приказу» производят в прапорщики и зачисляют в легкую полевую артиллерию.
На фронтах Первой мировой артиллерист Раевский воевал почти два года в составе третьей батареи первого Финляндского горного артиллерийского дивизиона, где он занимал должность младшего офицера. Николай Алексеевич участвовал в боях против австрийцев и германцев на Юго-Западном и Румынском фронтах. В 1916 году прапорщика Раевского производят в чин подпоручика, а в 1917 году – поручика. Особо отличился Николай Алексеевич во время знаменитого Брусиловского прорыва. Раевский вспоминает в письме: «Возьмем только один эпизод из первой мировой войны – тема вполне историческая. Осень 1916 г. Я – двадцатидвухлетний поручик артиллерии. В Карпатах готовится наш прорыв (развитие Брусиловского). Мне очень хочется заработать георгиевское оружие, а начальство не прочь дать мне возможность отличиться, потому что молодой артиллерист на хорошем счету. Словом, я вызываюсь быть передовым наблюдателем дивизиона – роль и весьма почетная, и весьма опасная ‹…› За полчаса до открытия огня я оказался в 300 шагах от германцев на самом важном участке плохо подготовленной операции. Сложно рассказывать дальнейшее. Еще один офицер-артиллерист был ранен. У меня, 22-летнего юноши, сосредоточилось управление огня 24 пушек. Я пристрелял их куда следует, но очень быстро стала рваться телефонная связь. Вдобавок еще один дивизион гаубичной артиллерии, впервые прибывший в горы, начал стрелять так неудачно, что снаряды ложились прямо на нас и добивали раненых. Командир батальона сказал мне шепотом: «Поручик, если вы не добьетесь переноса огня (к которому я не имел никакого отношения), пехотинцы вас перестреляют». (У «последней черты» всякое ведь бывает, о чем в уставах не пишется.) Мне удалось вызвать к телефону (последняя не перебитая линия) начальника артиллерии и прекратить гаубичное безобразие. Одновременно я, очень категорически, доложил всероссийски знаменитому артиллеристу, что, если наша артиллерия не потушит «электрической лампочки» (участок германской позиции против нас), операция не удастся. Через несколько минут германцы перебили последний мой провод, но их гора уже кипела, как котел, от наших разрывов. Атака все-таки не удалась, потери были большие, георгиевского оружия, я, понятно, не заработал, но осталось сознание, что свой долг я исполнил достаточно толково»[3].
К награде Николай Алексеевич все-таки был представлен – за боевые заслуги он был награжден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», а впоследствии – орденами Святого Станислава 3-й степени и Святой Анны 3-й степени. Войну он закончил на Румынском фронте, к тому времени он был уже опытным боевым офицером, командовал батареей.
Потом случился революционный февраль 1917 года. Тогда многим либерально настроенным офицерам показалось, что произошедшие перемены смогут привести Россию к новой, прекрасной и справедливой жизни. На первых порах Николай Раевский принимает и приветствует революционные изменения в стране, но лишь на короткое время – очень скоро приходят отрезвление и горькое разочарование. Вот как описывает развал фронта Николай Алексеевич в повести «1918 год»: «…Жуткий липкий позор. Каждый день по грязному, избитому бесчисленными обозами шоссе мимо домика, в котором мы живём, десятками, сотнями тянутся в тыл беспогонные, нестриженые злобные фигуры. Бросают опаршивевших, дохнущих от голода лошадей и бегут, бегут, бегут. Государственный разум великого народа русского… Свободная воля свободных граждан… И глухая, темная злоба закипает в груди – к тем, которые развратили и предали, и к тем, которые развратились и предали»[4].
После заключения Брест-Литовского мира и расформирования батареи в 1918 году Раевский демобилизуется из армии и уходит в запас. С фронта он возвращается к родным, которые перебрались к тому времени в городок Лубны (ныне в Полтавской области Украины). Поручик Раевский тогда еще не знает, что это была последняя встреча его семьи в полном составе: родители, два брата, сестра… родные, близкие, любимые… Но страшный кровавый вихрь революции и Гражданской войны беспощадно разделил их миры, разметал по разные стороны баррикад.
Позже братьев и сестру Николая Алексеевича репрессировали как врагов народа. Младшего брата Сергея по одним документам расстреляли, по другим – он скончался в лагере от болезни, что же было на самом деле, так и осталось неизвестным. Случилось это в страшном 1937 году. Средний брат Алексей сгинул где-то в лагерях (предположительно в Устьпечлаге) и его судьбу так и не удалось выяснить. Сестра София была осуждена раньше, в марте 1935 года, «за связь с зарубежной контрреволюцией» и приговорена к заключению на три года. Отец, Алексей Сергеевич, умер от тяжелой болезни еще в начале 30-х годов. В апреле 1937 года Софью Алексеевну из ленинградской тюрьмы перевели в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь. Впоследствии к ней в Караганду переехала и мать, Зинаида Герасимовна, где и скончалась в 1950 году.
Но все это случится позже, много позже… А пока поручик Раевский переживает несколько месяцев мирной жизни. Это были совсем непростые месяцы, ведь ему пришлось прожить их под уже пришедшими на Украину большевиками. Вдоволь хлебнув все «прелести» новой власти, Раевский в марте 1918 г. вновь уходит воевать, но уже на стороне Белого движения – против ставших уже ненавистными красных комиссаров. Именно тогда он сделал свой выбор. Определил свой Путь, путь «рыцаря Белой мечты», как он позже назовет свое первое литературное произведение… «Иногда тяжело бывает на душе. Кажется каким-то кошмаром Гражданская война – длинная цепь убийств, грабежей, насилий, вакханалия крови, тысячи ничего не делавших здоровых офицеров и солдат. Но встают в памяти другие образы и делается как-то легче. Была вакханалия крови и грязи. Была и белая сказка… Были рыцари… Всюду они были и под трехцветным флагом, и под украинским»[5]. К тому времени поручик Раевский был уже опытным офицером. В 1918 году на Украине, как впрочем, и во всей бывшей Российской империи, творился невообразимый хаос. Власть многократно переходила из рук в руки, и отнюдь не только от красных к белым. Противостояли большевикам печально известные петлюровцы. Махровым цветом распускались всевозможные разновидности украинского национализма. Но все эти виды «украинства» одинаково не желали иметь ничего общего с Россией – ни с исторической, ни с советской. Наиболее близким к системе ценностей старой России оказалась «гетманщина». Глава «украинской державы» генерал П. П. Скоропадский, в прошлом – офицер Русской Императорской гвардии, старался по мере сил сохранить хотя бы некоторые элементы дореволюционного миропорядка на подконтрольной ему территории Украины. Выбирая из нескольких зол наименьшее, как ему тогда казалось, Раевский оказался в офицерском добровольческом отряде, носившем наименование «Лубенского куреня». «Тогда, в мартовские дни восемнадцатого года, я все колебался, можно ли считать себя русским и сражаться под жовто-блакитным флагом, или нет? Близкие люди помогли разрешить сомнения. Совсем было собрался поступить в одну из натиевских[6] батарей; пустая случайность заставила отказаться от этого.
Отправная точка была правильна. Я сейчас в этом убежден, пожалуй, еще больше, чем четыре года тому назад. ‹…› Мне, как и многим офицерам, казалось, что независимо от тех временных форм, в которые выливалась государственная жизнь Юга, надо было во что бы то ни стало и ни перед чем не останавливаясь закрепить его освобождение от власти советов. Не пугала нас и временная самостийность Украины – все равно никто почти в нее серьезно не верил. Все это казалось наносным, временным, второстепенным, а главное – спасение девяти богатейших губерний от неминуемого разгрома в случае возвращения большевиков…»[7] Пробыв недолгое время на службе в гетманских войсках, в сентябре 1918 г. Николай Алексеевич принял решение перейти на службу, которая лучше отвечала его представлениям о борьбе за историческую Россию. Он вступает в Южную армию, возглавляемую бывшим командующим Юго-Западным фронтом Первой мировой войны генералом Н. И. Ивановым. Вместе с ним воевать против большевиков едет и его младший брат Сергей. В ноябре 1918 года они оба участвовали в боях против красных на территории Воронежской губернии.
Под влиянием разочарований в боеспособности Южной Армии, после падения Германской империи и поражения России в Первой мировой войне, многие офицеры стремились перейти из Южной армии в Добровольческую (Вооруженные силы Юга России – ВСЮР), неудивительно, что в их числе оказался и Николай Раевский. После расформирования Южной Армии в феврале 1919 г. поручик Раевский перейдет в составе своей части в Добровольческую армию генерала Деникина и вплоть до эвакуации в Крым будет воевать в рядах знаменитой Дроздовской дивизии, элиты Белого воинства (во второй батарее Дроздовской артиллерийской бригады). В качестве младшего офицера, командира орудия, он участвовал в боях против Красной армии в 1919 и 1920 гг. В 1919 г. Николай Раевский был произведен в чин штабс-капитана, а в 1920 г. – в чин капитана. В марте 1920 г. вместе со своей частью капитан Раевский эвакуировался из Новороссийска в Крым, а затем продолжил борьбу против Красной армии в Северной Таврии. Однако выход за пределы Крымского полуострова и успешное развертывание боевых действий белых в степях Таврии оказались недолгими. Русская армия[8] снова была вынуждена отступить в Крым. За все время, что он воевал, он ни разу не был серьезно ранен, но зато дважды тяжело переболел сыпным тифом (что случается крайне редко), а потом, в ещё более тяжелой форме, два раза возвратным. В бреду и в жару метался капитан Раевский на полке санитарного поезда, в палатах военных госпиталей. Были минуты, когда думал, что не выживет, в последний раз, с большим трудом, выкарабкался в керченском госпитале. Это были, пожалуй, одни из самых тяжелых периодов: «Через положенные число дней, помню, что это произошло довольно быстро, у меня начался второй приступ, проходивший очень тяжело. Временами, я, по-видимому, терял сознание. Потом приходил в себя и опять забывался в бреду, но один из таких светлых промежутков остался у меня в памяти. Мне показалось, что я слышу пулеметную стрельбу. Откуда она могла быть – бред, вероятно. Нет, оказался не бред. Как я впоследствии узнал, красные войска, перешедшие в наступление, одно время подошли близко. Стрельба слышалась ясно. Совершенно ясно помню, что наш палатный врач – пожилая ассистентка Завадского, вошла в палату и, слушая пулеметную стрельбу, сказала с тревогой: «Господа, что я буду с вами делать?» Офицеры приподняли подушки, вынули разных систем пистолеты. Ассистентка посмотрела на пистолеты и вытерла слезы. Кто-то из офицеров сказал: «Ну, за нас не тревожьтесь, мы сами»[9].
Каждый раз, выздоровев, еще неокрепший, преодолевая себя, он снова уходил на фронт, продолжал борьбу с красными, совершая со своей батареей ночные рейды по большевистским тылам, а однажды лишь чудом сумел избежать гибели под Геническом… Все последующие события развивались не в пользу Белой армии – силы стали явно не равны, началось последнее отступление белых частей в Крым… В эти последние недели и дни Белого Крыма, в состоянии крайнего истощения, после долгих изматывающих боев и бессонных ночей, Николаю Алексеевичу пришлось с неимоверными усилиями преодолеть пешком долгий изнуряющий путь вдоль Сиваша по Арабатской стрелке, уходя от красных вместе с оставшимися частями белой армии…
Пронзительные строки из повести Раевского «Добровольцы» очень точно передают атмосферу этих тяжелых дней: «Я не то сплю, не то не сплю. Горло болит еще сильнее, чем ночью. Мысли какие-то путаные, но их много сейчас… В первый раз в эти дни спокойно полежу… До Новороссийска мы, во всяком случае, доедем. Где-то там, далеко, рушатся царства и рождаются новые, кто-то кого-то свергает, с кем-то непременно надо воевать… Все осталось позади. Здесь только эти два больных мальчика, к которым я привязался, как к родным, горячее весеннее солнце да клубы пара, цепляющиеся за придорожные кусты. Кое-где среди них лежит пятнами зернистый серый снег. Дни его сочтены. Весна… Солнце пьянит и слепит. От горного леса тянет прелыми листьями. Мелькают поляны, поросшие белыми цветами… Наверное – подснежники. И почки на кустах набухли, и перелетают поминутно через поезд какие-то серые птицы… Только все это теперь не для нас… Нам война, тиф и смерть… Один немного раньше, другой немного позже. Все равно, в конце концов, мы – обреченные…
Катится железное колесо и давит нас одного за другим. Оно неумолимо и слепо и никому не остановить его бега и не изменить пути его. Наскочит – раздавит. И ребяток моих не пощадит. Погаснут тогда голубые искристые глаза Коли и желтое худенькое лицо Васи станет восковым… и потом не останется ничего.
Чем они, в конце концов, виноваты, бедные?.. Разве только тем, что родились не вовремя… как раз тогда, когда колесо сорвалось и покатилось»[10].
И вот, наконец, последний горький аккорд – Крымская эвакуация: погрузка на суда в Севастополе, прощальный взгляд в сторону русского берега, переход в Константинополь…
Впоследствии Раевский так вспоминал об этих днях: «Ноябрь 1920 года… Чёрное море… Берегов не видно, но, куда ни посмотреть, всюду дымят корабли. Океанские трехпалубные гиганты, речные колесные пароходы, впервые в своей жизни вышедшие в море, тонкие серые миноносцы, быстро режущие голубую воду, медленно плывущие на буксире баржи. Палубы кораблей залиты зеленой волной защитных шинелей. Медленно колышутся на мачтах трёхцветные флаги, а на военных кораблях виден Андреевский флаг. Русская армия оставила последний клочок Русской земли и идет к неведомым берегам»[11].
В начале ноября 1920 г. в составе Русской армии генерала Врангеля Николай Алексеевич был эвакуирован в Турцию и до 1 сентября 1921 г. находился в лагере армии у небольшого греческого городка Галлиполи – в знаменитом «Голом Поле», как называли его сами белогвардейцы. Галлиполийский период в истории Белого движения стал уникальным примером стойкости, мужества, предельного терпения в надежде воскресения России и собственного воскресения.
«Сыро и холодно, – писал в 1920-е гг. капитан Раевский об этих днях. – Косой мелкий дождь стучит по крышам брезентовых палаток. В мелкой грязи тонут разбитые, истрепанные в походах сапоги. Обогреться негде, пищи мало, но офицеры и солдаты не ропщут. Они могли бы уйти на все четыре стороны – в богатый, залитый огнями Константинополь, уехать на Балканы, пробраться в Париж. Но они никуда не ушли. Остались у родных знамён, ещё крепче сплотились вокруг своих вождей и ждут, когда позовёт Родина»[12].
Несмотря на полуголодное существование и острую нужду в самом необходимом, культурная и духовная жизнь в Галлиполи били ключом. В лагере действовало несколько походных церквей, расписанных и украшенных самими бойцами, они же и пели во время богослужений. Проводились строевые и спортивные занятия, продолжалось обучение юнкеров и кадетов, не успевших закончить образования на родной земле, также была организована школа для солдат, изъявивших желание повысить свой образовательный уровень. Капитан Раевский в такой импровизированной школе Дроздовцев преподавал французский язык. На территории лагеря действовали театр, «Устная газета», главным инициатором появления которой также был Николай Алексеевич, он же готовил материалы для её «сеансов». Впоследствии наблюдения и переживания галлиполийской эпопеи легли в основу одного из наиболее известных произведений Раевского – «Дневник галлиполийца».
«… элементы, не желавшие оставаться в армии, ушли, а оставшиеся подчиняются постепенному укреплению дисциплины и из скопища, хотя и дисциплинированного, людей, у которых центробежные тенденции были очень сильны, эта двадцатидвухтысячная масса обращается в стройное объединение»[13].
Пока изгнанная с родной земли, но непобеждённая Белая армия стойко несла тяготы «галлиполийского сидения», её Главнокомандующий генерал П. Н. Врангель вёл переговоры с руководством балканских славянских государств о возможности переезда туда белогвардейцев. Переговоры эти увенчались успехом, и в сентябре 1921 года капитан Раевский в составе своей части прибыл в Болгарию: «Итак, первого или второго сентября 1921 года транспорт «Решид-паша» доставил все, что осталось от Дроздовской нашей дивизии – ее основной кадр[14] – в болгарский порт Варна»[15].
Его батарея была расквартирована в городе Орхание (Северная Болгария). Таким образом, в общей сложности в рядах Белой армии Николай Алексеевич оставался ещё почти четыре года после Крымской эвакуации – во время ее «галлиполийского сидения» и «болгарского стояния».
Годы в Орхание были отмечены постепенно портящимися отношениями с местными жителями (первоначально благодушно воспринимавших русских воинов) и неуклонным ухудшением материального положения. Надежды на возвращение в Россию и на возобновление борьбы с большевиками неуклонно таяли, истощались и денежные резервы русского командования для содержания армии. Спустя два года жизни в Болгарии многие белогвардейцы, и в их числе капитан Раевский, практически голодали. Кому позволяли возраст и здоровье, нанимались на чёрную работу к местным крестьянам – обрабатывать землю, изготавливать кирпич и т. д. или отправлялись на рудники в качестве шахтёров. Однако Николай Алексеевич не чувствовал в себе силы пойти по этому пути – не позволяло здоровье.
Чтобы спастись от полуголодного существования, грозившего к тому же туберкулёзом, Раевский поступил на организованные в Софии американцами землемерные курсы. Денежное содержание студентам курсов было положено достаточно приличное. Кроме этого, Николаю Алексеевичу еще удалось заняться репетиторством, благодаря чему он смог немного улучшить своё материальное положение и восстановить пошатнувшееся здоровье. Хотя диплом землемера обещал впереди скромный, зато твердый достаток, Раевский все же мечтает о продолжении прерванной в студенческие годы научной работы:
«Я чувствовал, что во мне происходит некое внутреннее перерождение. По-прежнему я мысленно оставался потенциальным военным, готовым в случае необходимости взять в руки одну из винтовок, хранившихся в комнате коменданта [дроздовского. – Ред.] общежития генерала Никольского. Это ощущение оставалось неизменным, но в то же время я все больше и больше чувствовал, что во мне воскресает былой студент. Во-первых, я записался в Союз студентов Галлиполийцев. Таковой существовал в Софии, и командование наше во главе с генералом Врангелем относилось к нему весьма сочувственно. Генерал Врангель, как я не раз об этом упоминал, вообще всячески содействовал продолжению образования своих соратников. В дальнейшем я расскажу о том, что первую сотню бывших студентов, офицеров и вольноопределяющихся первого корпуса, отправлявшихся учиться в Прагу, генерал Врангель проводил самолично и пожелал им всяческих успехов»[16].
Помощь русской эмиграции – так называемая «Русская акция» – была организована в Чехословакии чрезвычайно широко. Основной составляющей частью этой акции было принятие на полное государственное иждивение пяти тысяч русских и украинских студентов.
Николай Алексеевич с радостью воспользовался возможностью продолжить прерванное войной обучение. Он с легким сердцем покидает не слишком-то гостеприимную Болгарию и устремляется навстречу новым возможностям. В 1924 году он переезжает в Прагу: «…Распрощался я и с генералом Туркулом. Он похвалил меня за решение ехать в Прагу, но только сказал:
– Знаете, Раевский, я рассчитывал, что вы поступите на юридический факультет, а что вам делать на этом естественном? Не перемените решения?
– Нет, Ваше Превосходительство, нельзя.
– Ну, будьте счастливы.
И мы простились, как видно, навсегда. Туркул года на два меня моложе, человек здоровый, может он по-прежнему торгует бензином где-то во Франции, но увидеться мы, во всяком случае, не сможем»[17].
В Праге Николай Раевский снова становится студентом. Он поступает на естественный факультет Пражского Карлова Университета: «…Итак, я снова, если не с юношеским увлечением – юность уже прошла, то, быть может, с более глубоким интересом и серьезным отношением к делу занялся знакомой мне наукой, а технические навыки, приобретенные в великолепных лабораториях Петербургского-Петроградского университета, позволили мне в Праге приняться за разработку одной очень специальной и сложной биологической проблемы. Вскоре я снова почувствовал себя исследователем-биологом и работал с былым увлечением. Казалось, что на этот раз мой дальнейший путь определился вполне окончательно…»[18]
В Карловом Университете обучалось в ту пору очень много русских студентов. В коридорах, лекционных залах, лабораториях, библиотеке – всюду была слышна русская речь «в большой лаборатории больше половины мест было занято русскими докторантами и мне рассказывали, что известный зоолог профессор Мразек показывал однажды помещение своей кафедры кому-то из приехавших ученых иностранцев и, отворив двери большой лаборатории, он им заявил:
– А здесь у меня армия Врангеля»[19].
Бывших галлиполийцев в эмиграции объединяло своеобразное «братство», именовавшее себя на первых порах землячеством. «Галлиполийское землячество» было организацией неофициальной, но, по существу, в студенческих кругах весьма влиятельной. Члены организации были очень тесно связаны между собой внутренней, конечно добровольной, дисциплиной. После официального юридического оформления землячество было переименовано в «Галлиполийский союз». Нужно признать, что союз этот для Раевского в действительности был чем-то гораздо более важным, нежели просто объединение бывших боевых офицеров, бывших вольноопределяющихся армии генерала Врангеля, бывших российских подданных… Слово «бывшие» никак не согласовывалось с теми помыслами, устремлениями и чаяниями, которые владели тогда почти целиком умами студентов, с которыми Раевский был наиболее тесно связан. Проводилась колоссальная работа, направленная на то, чтобы сохранить боевой дух, поддержать белую идею и распространить ее впоследствии на младшее поколение русской эмиграции. Николай Алексеевич становится активным членом организации. Его уважают в среде студентов и преподавателей, с ним советуются, к его мнению прислушиваются, поэтому неудивительно, что Раевского избирают в правление Галлиполийского союза, и он с большим подъемом и вдохновением погружается в его деятельность: «…Дело в том, что в душе я, прежде всего, оставался белым офицером, участником кончившегося крахом белого движения. Но о том, что это был действительно крах, конец, а не временный перерыв в борьбе, я, как и большинство моих товарищей, догадался только много лет спустя. ‹…› Армия наша перешла на трудовое положение. По существу-то своему она была расформирована, рассредоточена, но для душевного своего успокоения мы считали, что это состояние временное. И вот, благодаря таким настроениям, я должен сказать, что в первые пражские годы, моим главным стимулом была именно душевная и материальная подготовка к воскрешению белого движения…»[20]
Уже упоминалось, что Союз галлиполийцев имел значительное влияние на студенческую жизнь внутри университета. Но было бы несправедливо не отметить, что роль союза и его политическое влияние, были гораздо шире и значительней. О том, какой политический вес имело галлиполийское объединение в Чехословакии (и не только). «…а сейчас упомяну только о том, что в 1937 году, когда советское правительство было уже признано чехословацким не только де факто, но и де юре, и в городе находилось не официозное, а вполне официальное дипломатическое представительство Советского Союза, на галлиполийский бал явились три министра чехословацкого правительства, генерал-инспектор армии – потенциальный главнокомандующий в случае, если бы разразилась война, во главе большой группы офицеров Генерального штаба в парадной форме и, наконец, что, пожалуй, наиболее знаменательно, ответственные дипломатические представители 16 великих и малых держав…»[21]
При всей загруженности деятельностью в Галлиполийском союзе Раевскому удавалось успешно совмещать ее с работой частного преподавателя русского и французского языков с работой в Русском Заграничном Историческом архиве в Праге. Занимаясь же на биологическом факультете Карлова университета, Николай Алексеевич почти ежедневно посещает курсы литературной секции Французского института имени Эрнеста Дени, куда поступил еще в 1924 году.
Первоначально в институте Николай Алексеевич предполагал лишь углубить свое знание французского языка, дабы иметь возможность впоследствии устроиться на работу в одну из французских африканских колоний в качестве энтомолога. Но позже он признается, что учеба в институте сыграла в его жизни гораздо более значимую роль: «Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что именно там, в аудиториях литературной секции, начались мои первые писательские шаги, неуклонно уводившие меня в сторону от полюбившейся мне с детства биологической науки…»[22]
Талант будущего писателя по достоинству оценил преподаватель французского языка профессор Жан Паскье. О нем Николай Алексеевич не раз вспоминал с особой теплотой и искренней благодарностью. После окончания курсов Раевский получил наивысшую оценку за свое конкурсное экзаменационное сочинение по французскому классицизму и был премирован поездкой в Париж.
В Париже Николай Алексеевич пробыл всего месяц, но за этот короткий отрезок времени он успевает сделать ряд важных деловых визитов, один из которых был связан с поручением от председателя общества галлиполийцев Павла Михайловича Трофимова: «За несколько минут до начала посадки на перрон пришел председатель Союза Галлиполийцев Павел Михайлович Трофимов. Он, как это было условлено заранее, передал мне письмо, которое я должен был лично вручить командиру корпуса, генералу Кутепову. Павел Михайлович предупредил меня, что в случае опасности я должен постараться уничтожить это послание…»[23]
О свидании было договорено заранее: «Генерал Кутепов сам отворил дверь и принял меня в своей очень скромной квартире. Я вытянулся, как полагалось военному, и отрапортовал:
– Ваше Высокопревосходительство, Дроздовского артиллерийского дивизиона капитан Раевский представляется по случаю прибытия в город Париж.
Сейчас, пожалуй, и этот рапорт, отчетливо произнесенный на седьмой год нашего пребывания за границей, представляется смешноватым. Но у нас, галлиполийцев, так полагалось. В свое время я записал этот разговор с командиром корпуса, но запись моя не сохранилась. Никаких важных вопросов мы не обсуждали, а просто я по приказанию генерала, сидя с ним за столом, рассказал довольно подробно о житье-бытье пражских галлиполийцев и передал Кутепову их почтительный привет. В заключение Александр Павлович, пожимая мне руку, сказал:
– Теперь я всецело занят Россией, только Россией»[24].
В предместьях Парижа Раевский навещает своего бывшего командира Александра Якубова, в то время возглавлявшего охрану великого князя Николая Николаевича, жившего со своей супругой в скромном замке Шуаньи. После встречи Раевский напишет: «Поездка в Шуаньи была для меня поучительной. Я воочию убедился в том, что там никак не центр борьбы с русской советской революцией. Просто живет большой человек, когда-то блестяще руководивший великой галицейской битвой, которая, по существу, вывела сразу Австро-Венгрию из строя, большой человек, который достойно доживает свой век. Теперь он – историческое воспоминание и ничего больше…»[25]
Но все же одной из главных задач, которую поставил себе Раевский, отправляясь во Францию, была возможность пополнить свои материалы для диссертации. Несмотря на обширность фондов библиотек Праги, в них все же отсутствовали некоторые нужные научные журналы, в особенности итальянские (к тому времени Николай Алексеевич уже вполне прилично выучил итальянский язык). Он разыскал все необходимые ему материалы в Парижской Национальной библиотеке и в библиотеке Пастеровского института.
«Перед самым отъездом я последний раз побывал в русском Париже, – вспоминает Раевский прощание с друзьями – Меня пригласили поужинать наши бывшие офицеры дроздовцы. Председательствовал за столом милый наш полковник Шеин. Вспоминаю о нем с очень теплым чувством. Также тепло вспоминаю и тех, кто в этот вечер пришел пожелать мне счастливого пути – Александра Георгиевича Ягубова, поручика Гончарова, Пижоля, моего друга князя Володю Волконского и всех других. Мы чокались не бокалами шампанского, а рюмками с русской водкой. ‹…› А на следующий день, когда таксист француз вез меня по улицам великого города на Восточный вокзал, передо мной в последний раз промелькнули и Триумфальная арка, и площадь Согласия, и Лувр – все те места, которые я никогда не забуду. Казалось, не было у меня никаких оснований думать, что я никогда больше не увижу Парижа, ведь я молод, скоро кончу Пражский университет, передо мной как будто неплохое будущее и отчего мне снова не приехать на берег Сены? А я думал с грустью: «Все, последний раз, Парижа мне больше не видать». Думал и, к сожалению, оказался прав…»[26]
После Парижа пражская жизнь потекла своим чередом… Николай Алексеевич давал уроки, слушал лекции, активно работал над диссертацией. Общие ее контуры наметились уже достаточно ясно и казалось, что судьба молодого ученого после защиты была уже вполне определена… Но тут в его жизни произошло одно очень важное событие, которое в корне изменило весь дальнейший ее ход. В октябре 1928 года, по воле случая, Раевский знакомится с двумя только что вышедшими томами нового издания писем Пушкина под редакцией Модозолевского, и происходит прозрение – он понимает, что истинное его призвание вовсе не биология, которой он увлекался с детства, а литература, и главным образом изучение жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина.
«Возвратившись домой и поужинав, я зажег настольную лампу и принялся за чтение. И… читал до рассвета… Случай сам по себе, конечно, не столь примечателен. Но кто из нас не зачитывался хоть раз в своей жизни до рассвета. ‹…› Отправившись утром в университет, я уловил себя на том, что мои мысли всецело захвачены Пушкиным. Не его стихами, не музыкой его стихов, а впервые – им самим, Пушкиным-человеком, который творил эти прекрасные стихи. Жил. Любил. Страдал. Имел друзей. На протяжении всей сознательной жизни имел свободу. Чтил ее рыцарей, чуть ли не до конца жизни рвался на войну во имя интересов отчизны ‹…› Человек, рожденный не для житейского волнения, не для корысти, не для битв, а для вдохновения, для звуков сладких и молитв – и вдруг эти неоднократные попытки стать военным. Пушкин, весь полный противоречий, а точнее само противоречие, но уже не мрамор, не бронзовая фигура, а живой человек, не до конца понятный, полный загадок, стал для меня таким близким, таким родным»[27].
Первым порывом было забросить все, даже диссертацию, и всецело посвятить себя новому увлечению. Однако диссертацию, после некоторых колебаний, Николай Алексеевич все же благополучно закончил (она, кстати, была признана выдающейся). Успешно сдал довольно сложные докторские экзамены и получил степень доктора естественных наук Карлова университета. Но затем долгое время к биологии не возвращался и вскоре научную работу в этой отрасли знаний уже окончательно оставил. Именно тогда, в октябре двадцать восьмого года, будущий писатель Раевский, по его собственному выражению, «остро заболел» Пушкиным и от этого заболевания не излечился до конца своей жизни…
«Наконец, 25 января 1930 года в Историческом зале Карлова университета, где некогда ораторствовал его ректор, впоследствии сожженный как еретик Ян Гус, в торжественной церемонии профессор промотор, приведя меня к академической присяге, вручил мне диплом доктора естественных наук с предоставлением надлежащих прав и преимуществ. Мне было сделано почетное и совсем необычное для студенческой диссертации предложение напечатать ее в трудах Чехословацкой академии наук и искусств.
Я не имел мужества отказаться, и в то же время у меня не хватило решимости снова засесть за микроскоп и доработать свой труд, как это было предложено профессорами. Примерно через год я убедился в том, что перестал быть биологом, и отказался от занимаемого мною места в лаборатории. Теперь я был душевно свободен и сказал себе: «Довольно зоологии, да здравствует Пушкин!..»[28]
Последующие события в жизни Николая Алексеевича, вплоть до ареста и вынужденного отъезда на родину, были так или иначе связаны уже с новой его страстью. Писатель погружается в исследовательскую работу, с необыкновенным подъемом исследуя миры Пушкинианы. Его всерьез увлекает тема «Пушкин и война». Проведя в богатейшей пражской библиотеке не один день, основательно и кропотливо изучив и обработав все доступные материалы, к началу 1937 года Раевский пишет серьезную работу, на основании которой он решается сделать двухчасовой доклад перед немногочисленной, но весьма квалифицированной аудиторией. Доклад был принят слушателями более чем благосклонно и вызвал весьма оживленный интерес. Раевского начинают приглашать в разные культурные общества, выступление пришлось повторить несколько раз. Николай Алексеевич с радостью понимает, что ему вполне удается заинтересовать слушателей и это вдохновляет его на дальнейшее творческое развитие темы.
Позже тематику пушкиноведческих исследований Николай Алексеевич значительно расширил, начав поиски частных архивов А. Н. Гончаровой-Фризенгоф и Д. Ф. Фикельмон. В результате ему удалось получить из закрытого частного архива копию неизвестного письма Пушкина и он стал первым и единственным из исследователей, кто побывал в замке Бродяны в то счастливое время, когда там еще сохранялась историческая обстановка и документальные свидетельства пушкинских времен. Позже, во время войны, замок был разграблен…
Об истории его изысканий в довоенной Чехословакии гораздо лучше расскажут его книги, вышедшие значительно позже, уже в Советском Союзе. В книге «Портреты заговорили» Николай Алексеевич повествует не только о Пушкине и его окружении, но и в увлекательнейшей форме рассказывает о своих приключениях, связанных с поисками материалов к этой книге. Хочется все же познакомить читателя с одним эпизодом, который не вошел в книгу, но который Николай Алексеевич описал в своих мемуарах:
«Ни в одной из своих публикаций я, однако, не коснулся забавного инцидента, происшедшего во время этого моего памятного визита. Представьте себе обстановку: вечер в уютной малой гостиной замка, освещенной керосиновыми лампами (электричества в то время в Бродянах еще не было). В старинных креслах, на которых когда-то сиживала вдова поэта, навестившая сестру, и сама Александра Николаевна, в этих креслах сидим и беседуем мы: теща владельца замка графиня Эрнфельд, вдова германского генерала, командовавшего кавалергардами Вильгельма II, правнук Александры Николаевны граф Георг Вельцбург, которому принадлежал теперь замок, его молодая тогда супруга и я. Беседуем по-французски. ‹…› Весьма немолодая уже, но бодрая на вид, очень представительная дама графиня Эрнфельд, наводит на меня свой золотой лорнет и говорит:
– Так у них была дуэль?
– Да, мадам.
– Это ужасно! А скажите, кто кого убил, Пушкин Дантеса или Дантес Пушкина?
Граф Вельцбург краснеет и растерянно произносит только одно слово:
– Maman!
Мне пришлось сделать над собой большое усилие, чтобы не рассмеяться, но я спокойно объясняю графине, что к несчастью на дуэли погиб не Дантес, а Пушкин. Перевожу после этого разговор на другую тему, чтобы снова не пришлось делать над собой усилие»[29].
К концу двадцатых годов жизнь Раевского складывается вполне благополучно. Он по-прежнему занимается Пушкиным для души. Зарабатывает вполне прилично благодаря работе в государственном Гигиеническом институте Чехословакии, для которого делает сложные научные переводы с французского. Ему также поступает заманчивое приглашение работать помощником библиотекаря во Французском институте, и он его с удовольствием принимает, к тому же частные уроки французского и русского приносят Раевскому неплохой доход. С улучшением материального положения Николай Алексеевич уже может оказывать значительную помощь семье – он шлет большие посылки с продуктами и вещами в Советский Союз (тогда это еще было возможно, чуть позже связь практически прекращается, так как это становится очень опасным для родных). У него даже появляется возможность принарядиться – он заказывает очень приличный дорогой фрак и все полагающиеся к нему аксессуары – фрак ему был необходим, поскольку он испытывал чрезвычайную любовь к танцам (как признается в своих дневниках Раевский) и старался не пропускать ни одного бала, которые устраивали русские заграничные общества. В то время Николай Алексеевич был, по существу, уже не молод, и, поскольку молодость пришлась на тяжелые годы войны и эмиграции, когда не приходилось думать о развлечениях, теперь он наверстывал упущенное и немало времени посвящал тому, что можно назвать светской жизнью:
«При всяком удобном случае охотно танцевал и на больших русских балах, и на маленьких домашних собраниях, и на вечерах, хотя и не домашних, но все же немноголюдных. Пройдя хорошую пражскую школу, я танцевал недурно. Во всяком случае, мои юные дамы, среди которых были и ученицы балетного училища и начинающие балерины, русские и чешки, принятые в труппу Народного театра, эти юные дамы на своего партнера не жаловались. Однажды я даже отважился танцевать танго с моей приятельницей, знаменитой заграничной балериной Елизаветой Николаевной Никольской»[30].
Невозможно не коснуться одной из самых главных тем писательского творчества Раевского, ведь к тому времени, как Николай Алексеевич увлекся пушкинистикой, он имел уже большой писательский опыт: «Ещё во время похода на Москву я решил, что если останусь жив, напишу книгу об учащихся-добровольцах. В Крыму, в перерывах между боями, я начал заносить свои впечатления на бумагу. Образовалась уже порядочная пачка листов, но во время исхода из Севастополя она пропала вместе со всеми моими вещами. В Галлиполи не было времени писать воспоминания. Я приступил к ним в феврале 1922 г. в Орхании (Болгария), где стоял в то время Дроздовский артиллерийский дивизион, и окончил обширную рукопись (1059 страниц) 24 июня 1923 г., в том же городе».[31]
И вот уже в Праге, едва сдав экзамены на докторскую степень и защитив диссертацию, Раевский, как он сам признается, «вновь почувствовал неудержимое желание писать. Писать не воспоминания, а что-то художественное или полухудожественное»[32]. И уже в 1924 году в издававшемся в Праге журнале «Студенческие годы», он печатает отрывок из задуманной им новой книги под названием «Новороссийск». В нем Раевский описал катастрофу добровольческой армии четырнадцатого марта двадцатого года, которую пережил сам… Отрывок, напечатанный в журнале, имел несомненный успех и был отмечен в целом ряде русских газет, выходивших в разных странах Европы и в Соединенных Штатах. Окрыленный хотя и небольшим, но все же успехом, Раевский продолжил работать над повестью, которую назвал: «Добровольцы. Повесть крымских дней». Закончив книгу к концу 1931 года, он попытался ее издать, но безуспешно. Никто тогда не знал Николая Раевского как писателя и издатели, возможно, не хотели рисковать. Но, скорее, дело было в другом. Сам Раевский, размышляя на эту тему пишет: «В самом деле, я чувствовал, что для красных моя повесть слишком белая, а вот белые друзья мои, которым я давал ее прочесть, находили ее, правда, не красной, но слишком, мол, объективной и потому красноватой, во всяком случае не снежно белой»[33]. Скорее всего, именно эта «красноватость» и была причиной отказов издать повесть. Очень жаль. В. В. Набоков (с писателем Раевский был очень близко знаком, их объединяла одна общая страсть – бабочки), которому Раевский отправил рукопись, весьма высоко оценил повесть, но у него была своя версия на счет того, почему ее не печатали: «Владимир Владимирович ответил мне очень подробным и лестным письмом, в котором он одобрил и содержание присланных ему отрывков, и мой стиль, но впоследствии в другом письме он мне сказал примерно так:
«– Николай Алексеевич, вы не огорчайтесь тем, что вас не печатают. Вас не печатают не потому, что вы пишите плохо, а как раз потому, что пишите хорошо и можете, чего доброго, стать кому-то конкурентом»[34].
В начале тридцатых годов мировой экономический кризис весьма негативно сказывается и на материальном положении Раевского – работа в Институте Гигиены резко сокращается, одно за другим закрываются научные организации, уходят многие ученики. Появляются серьезные долги и чтобы рассчитаться с кредиторами, он принимает трудное для себя решение – продать рукописи, в числе которых были «Дневник галлиполийца», а также повести «1918 год» и «Добровольцы», которые в Чехословакии так и не были напечатаны, в Русский зарубежный архив[35].
Конец тридцатых принес с собой еще более тяжелую ситуацию. В 1939 году Чехословакия временно перестала существовать как государство. Волею судеб Раевский живет теперь в протекторате Богемия и Моравия, в котором полновластными хозяевами стали немцы, оккупировавшие эти земли, остававшиеся тогда в составе Чехии. После расчленения страны Словакия стала практически марионеточным государством. Этому предшествовало событие, вошедшее в историю как «Мюнхенское соглашение», которое и послужило первым толчком к катастрофическому разделу Чехословакии и оккупации ее Германией.
Вот как Николай Алексеевич описывает в своем пражском дневнике всего несколько дней осени 1938 года. Всего несколько скупых абзацев, но как пронзительно и точно передает он настроение, царившее в стране:
«20/IX. По-моему, положение безнадежно. Правительство отвергло лондонский «план». Как гражданин не могу не сочувствовать мужеству чехов, как обыватель, конечно, горюю. Если будет война, оставленная всеми Чехословакия погибнет без остатка. Даже если уцелею, придётся все начинать сначала. Тоска зверская, невыносимая. Понимаю Марью Степановну с её мыслями о флаконе[36]. От этой самой тоски пошёл слушать «Женитьбу Фигаро». Не помогло. Чудная музыка только временами доходила до сознания. Теперь почти конец, аплодисменты, визави. Совсем почти как всегда. Но в антрактах лица у всех серьёзные и, чувствуется, пришли тоже разгонять тоску. У нас в «Огоньке» считают, что у чехов при отчаянной решимости есть процентов 10 вероятности все-таки вызвать европейскую войну. Даже самые большие ругатели присмирели и в своей среде. Слишком большая трагедия. Вчера Осусский вышел из кабинета в слезах и сказал журналистам:
– Предают целый народ, даже не спросив его мнения. Если тон немецких радио соответствует положению вещей, нападение Германии, поддержанной Польшей и Венгрией, неизбежно. Не вижу выхода, не вижу. Во всяком случае самого страшного – прихода сюда советских войск – не будет. Выступление Венгрии совершенно исключает эту возможность.
21/IX. Войны не будет. Бомб не будет. Жизнь понемножку покатится своим чередом. Капитуляция… Основное чувство – стыд, стыд, жуткий стыд… Чувствуешь себя без вины виноватым перед чехами. Бедные. Многие женщины плакали, когда спикер срывающимся голосом читал официальное сообщение. Да, говорят, плакали и некоторые офицеры на улице. Двадцатилетие республики. Никогда не забуду – теплый тихий вечер, слабо освещённые Вацлавские ночи; (рекламы потушены). Стою в толпе около «Каруны». Штепанок читает воззвание начальника пропаганды, великолепно написанное, трагическое… Только сравнение Чехословакии с Иисусом Христом безвкусно. Тихо, где-то звонят колокола. Передо мной плачет женщина, кажется проститутка… Независимость чешского государства фактически кончается. О манифестациях напишу завтра. Гнусно, гнусно… И нет даже подсознательной радости от того, что можно, кажется, выкинуть маску и ликвидировать ненужные больше «железные запасы»[37]. Жалкие все, жалкие…»[38]
В воздухе все сильнее и сильнее пахло войной. Многочисленные боевые эшелоны тянулись в Польшу. Некоторые из них проходили и через Прагу. Обстановка в стране была крайне напряженная, в русских эмигрантских кругах началось брожение. Главный вопрос: как быть, когда начнется большая война? В том, что она начнется, уже никто практически не сомневался. Русское эмигрантское общество разделилось на несколько противоборствующих групп. Образовалась ничтожно малая, но очень опасная группа «русских нацистов». Эти будут всячески помогать немцам. С другой стороны, ходили слухи о том, что некоторые группировки собираются активно помогать советской армии. Раевский твердо стоит на позиции строжайшего нейтралитета: «Наша позиция ясная. В случае войны и до самого ее конца мы прекращаем всякую идеологическую борьбу против советской власти и ни в коем случае, и ни в какой форме не будем содействовать немцам. В то же время мы, как противники советского режима, не можем оказывать помощь советской власти, но если она будет защищать нашу родину, то бороться против нее мы не будем»[39]. Ждать начала неизбежных грозных событий пришлось недолго. Двадцать третьего августа был заключен германо-советский пакт о ненападении, а первого сентября германские армии уже начали наступление на Польшу. Мировая война началась.
В первые же дни нападения гитлеровской Германии на СССР все советские граждане были интернированы из Чехословакии. Из пяти примерно тысяч русских эмигрантов, живших в Праге по так называемым Нансеновским паспортам, сорок шесть человек, считавшихся небезопасными для Германии, в том числе и Раевский, были арестованы.
«Мы спустились в довольно большое помещение, в котором уже было несколько десятков людей, стоявших смирно. Среди них я заметил нескольких знакомых русских. Ко мне подошел молодой офицер эсэсовец, какого звания – не помню, да и в эсэсовских званиях я еще не разбирался. Он скомандовал мне вывернуть карманы, быстро прошелся рукой по пиджаку, вынул неосторожно захваченный мною хорошо очиненный карандаш и сказал что-то такое, чего я не разобрал. Я продолжал стоять навытяжку, держа карандаш в руке. Вид у меня был, вероятно, довольно глупый. Офицер, не меняя выражения лица, сухим автоматическим движением дал мне пощечину. Это была первая пощечина в моей жизни. Странное дело, я не почувствовал себя оскорбленным. Офицер действовал как автомат, а на автоматы ведь не обижаются. Потом я услышал от русских свидетелей этой сцены, что я держал себя с достоинством и совсем будто бы не волновался. Пусть так, не волновался, но все-таки пощечины этой не забыл ‹…› Грузовик тронулся, я понял, что нас повезут в тюрьму. Сопровождавший нас молодой эсэсовец-офицер, посмотрев внимательно на меня, ткнул пальцем в воздух перед собой и спокойно грозным голосом спросил:
– Jude? (Еврей?)
Я, все время стараясь оставаться спокойным, ответил четко:
– Nein. Ehemaliger Zarenoffizier. (Нет, бывший царский офицер) ‹…›
Не знаю совершенно, какое, собственно, мне предъявят обвинение. О дисциплине, существовавшей в немецких местах заключения, долго говорить не стоит. Это общее место воспоминаний всех, побывавших в оных местах. Порядки были рассчитаны на то, чтобы заключенный ни на минуту не забывал о том, что он заключенный. Если гремела дверь и входил кто-то из начальства, маленького или большого, вскакивать надо было моментально и стоять смирно, вытянув руки по швам. Если надо было передвигаться по коридору, то мы не шли, а обязательно бежали мелкой неутомительной рысью, но обязательно рысью. А стоять в любой канцелярии и вообще в любом помещении, куда тебя привели, надо было обязательно не только навытяжку, но прикасаясь кончиком носа к стене. Обязательно прикасаясь, и только кончиком, иначе – по морде. Утром убирать постели строго по инструкции, иначе – по морде. И все так: серия регламентированных движений по любому ‹…› когда мы мелкой рысцой пробегаем по коридору мимо одной из камер, наш староста коммунист, осторожно озираясь, торопливо вытаскивает из какой-то щели крохотную записку, свернутую в трубочку. На ней грозные новости: немцы ведут блицкриг – молниеносную войну, и ведут ее удачно. Один за другим попадают в их руки наши русские города. Был у нас в течение нескольких дней и другой источник информации, источник совсем необычный. Недалеко от нашей тюрьмы высокая башня с большими часами, одна из тех многочисленных башен, в честь которых Прагу называют, между прочим, и стобашенной. На верхушке башни крытая галерея и там в течение нескольких дней появлялась все одна и та же молодая женщина. Мы видели ее из окна камеры совершенно ясно. Женщина опиралась об перила, делала правой рукой приветственный знак, а потом начинала медленно и четко выписывать в воздухе чешские буквы. Это были города, занятые немцами. Помню, женщина ясно начертила на воздухе слово «Минск». Староста горестно покачал головой: это ведь далеко от границы – Минск. Да, неблизко. Но однажды, к нашему огорчению, в то время, когда молодая женщина передавала с башни телеинформацию, за ее спиной появилось двое эсэсовцев. Женщину увели, и мы, конечно, больше ее не видели. Каким-то путем наш староста коммунист узнал, что эта молодая женщина – еврейка и она передавала с башни новости своему отцу, заключенному в одной из камер нашей тюрьмы…‹…› Обманывать себя не хочу: мне прежде всего очень хочется жить дальше. Если бы я был верующим, вероятно, шептал бы про себя молитвы, но я прочно уверен в том, что это ни к чему, совсем ни к чему. Подумал о маме. Жива она или давно уже нет ее на свете, моей мамы? Подумал напряженно и вдруг ощутил ясно: жива мама, жива, и сейчас думает обо мне, и вот странное ощущение – мне показалось, что по моему бритому затылку прошлась чья-то ласковая рука. Нет, не чья-то – ее рука! И мне стало спокойно…»[40]
Продержав Николая Алексеевича два с половиной месяца в тюрьме, в гестапо, очевидно, решили, что этот русский не столь уж опасен. Его выпускают на свободу, взяв подписку о невыезде, К счастью, в гестапо не знали о статье, написанной Николаем Алексеевичем в 1938 году для одного французского журнала, где он весьма нелестно и жестко отзывается о странах, участвовавших в предательстве Чехословакии, которую он справедливо считал своей второй родиной и горячо любил. Ту статью не успели напечатать, иначе писателя Раевского из гестапо, скорее всего, не выпустили бы, а возможно, и расстреляли.
Надо было жить дальше в прочно оккупированной германцами стране. Начались нудные, тоскливые, серые германские будни. Работы практически почти не осталось. Французский институт закрылся, положение спасало лишь то, что предусмотрительный мсье Фишель, директор института, видимо, заранее заключил соглашение с одним чехом, который с начала войны организовал в помещении будто бы бывшего института частную школу французского языка. Раевский по-прежнему оставался помощником библиотекаря теперь уже этой частной школы.
В первые месяцы сорокового года Николай Алексеевич был занят почти исключительно своими маленькими личными делами. Связь с домом давно и безнадежно порвалась, не осталось в Праге и по-настоящему близких людей. Почти все друзья покинули Чехословакию – кто уехал в Лондон, кто во Францию. Судьба как будто вновь решает испытать Николая Алексеевича, пережившего Первую мировую войну, две революции, кровавую Гражданскую и еще многое-многое другое, на прочность. Но, как ни странно, именно в это невозможно тяжелое для него время она вдруг делает необычный подарок – посылает ему одно из самых сильных душевных потрясений… Она дарит ему, уже почти пожилому человеку, любовь… Любовь бескорыстную, жертвенную… Многое в этой любви было от отеческой заботы – юная поэтесса Оля Крейчева была младше на 29 лет. Необыкновенно талантливая, с ломким, порывистым характером и большими страстями, слишком большими для 17 лет – она пленила Раевского живым и впечатлительным умом.
Первая их встреча произошла, когда Николай Алексеевич был приглашен в молодежный лагерь «Русских витязей», где его попросили прочесть ребятам-гимназистам небольшой литературный доклад. Оля, красивая и стройная девочка-девушка, была среди слушателей. Тогда Раевский хоть и видел ее, но не обратил внимания. Настоящее их знакомство состоялось позже. Толчком послужил разговор, состоявшийся в гостях у друзей Николая Алексеевича: «Николай Алексеевич, вы, кажется, знаете Олю Крейчеву?
– Да, немного, совсем немного. Раз только ее видел.
– А вы знаете, Крейчева – очень талантливая девочка. Пишет хорошие стихи. Хотите посмотреть?
– Да, пожалуйста. – Вероятно, голос мой прозвучал суховато. Ну, думаю, очередное гимназическое творчество.
Мария Степановна протянула мне тетрадку, где еще трудночитаемым, но уже взрослым, недетским почерком были написаны стихи. ‹…›
Да, мне сразу показалось, что у этой девочки несомненный талант. Я стал перелистывать тетрадку, вчитываться. Оле, оказывается, шестнадцать лет, но говорят, что она уже не ребенок»[41].
Узнав, что милая Олечка была сиротой «без геллера в кармане», Николай Алексеевич уже не мог оставить ее на произвол судьбы. В период знакомства с Николаем Алексеевичем она жила в семье приютивших ее пражских сердобольных знакомых Раевского – Шеттнеров, сын которых, Слава, Олин ровесник и друг, был его учеником.
Много, много было «достоевщины» в Оле и ее юной судьбе. Все это не могло оставить равнодушным такого внимательного к чужим судьбам человека, как Николай Алексеевич. Он тут же взялся за образование юной поэтессы и стал давать ей уроки французского, посильно помогая ей морально и финансово. В те военные годы, как бы странно это ни казалось, именно заботы об Оле становятся главным содержанием пражской жизни Раевского. Николай Алексеевич приходится стать доверенным лицом юного пылкого сердца – точнее, сразу двух – как оказалось, «дети» – Оля и Слава – были отчаянно влюблены друг в друга, однако родители Славы резко восстали против этого романа. Долгие месяцы и даже годы Николай Алексеевич участвует в семейной драме, принимая на себя роль посредника и советника и не замечает, как в попытках примирить враждующие стороны, сам бесповоротно влюбляется в девушку…
Когда же «дети» наконец поженились (Раевский принял в организации свадьбы самое деятельное участие), Николай Алексеевич продолжил играть значительную роль в их судьбе, – помогал финансово, занимался изданием стихов Оли. «Я бесконечно благодарен покойной Оле, – напишет Раевский своей пражской знакомой уже в 1988 году, – за то, что, заботясь о ней, я сравнительно легко и содержательно провел пять тяжелых военных лет».
Эта романтическая сторона жизни Раевского записана им самим в пражских дневниках. Возможно, эти дневники будут в скором времени изданы отдельной книжкой.
После оккупации Праги немцами Раевский не прекратил свою работу по Пушкину – он ведет ее теперь по двум направлениям: во-первых, продолжает давно уже начатое исследование личности графини Фикельмон и ее отношений с Пушкиным, одновременно с этим он начинает двухтомное научное исследование под названием «Пушкин в Эрзерумском походе». Приближавшийся конец войны не сулил Николаю Алексеевичу ничего хорошего, и поэтому Раевский, зная, что задуманного труда он не успеет закончить, уложил все свои материалы в два объемистых конверта и передал их на хранение своему приятелю. Впоследствии он узнал, что профессор умер, и этих материалов, к сожалению, разыскать не удалось.
В начале сорок пятого года Германия, что называется, дышала на ладан. Стальные тиски сжимали ее и с востока и с запада. Было совершенно ясно, что конец войны совсем близок. «Думаю, что будущий историк, если он, между прочим, займется и настроениями пражских галлиполийцев в этот период, – вспоминал Раевский, – вряд ли обвинит нас в том, что мы желали прихода в Прагу американцев, а не большевиков. Одно дело – желать победу Советскому Союзу, а другое дело – попасть в советские тюрьмы, что, по нашему общему убеждению, грозило нам в случае прихода в Прагу советских войск совершенно реально»[42].
Союзники прочно овладели воздушным пространством Германии. Однако многочисленные сухопутные их дивизии все еще не приступали к открытию второго фронта. Зато советские армии уже вплотную подошли к границам Чехословакии. Но все равно невозможно было предугадать, кто же первым войдет в Прагу – англо-американцы или советская армия. Многие русские эмигранты в спешке покидали тогда Прагу, некоторые отбывали в Германию, но Николай Алексеевич решает остаться: «Спасаться в Германию для меня было абсолютно неприемлемо по моральным причинам. Не принимая чехословацкого гражданства, я всецело был связан с этой страной, искренне ее любил и не мог зачеркнуть двадцати лет своей жизни. Не скрою, что некоторую роль в моем твердом желании не ехать в Германию сыграла и пощечина, полученная мною от нацистского офицера в тюрьме. Единственная пощечина, полученная мною в жизни. ‹…› Да, я откровенно желал прихода американцев, так же как и все почти наши галлиполийцы, а на случай возможного все же прихода большевиков я принял окончательное, как мне казалось, решение: в случае прихода красных я отравлюсь. Оружия у меня не было. Я уговорился с одной пожилой докторшей, также уезжавшей в Германию, что на вокзале она мне передаст склянку со смертельной дозой яда». К счастью, склянку она на вокзал не принесла:
– Николай Алексеевич, яда я вам не принесла. Совесть не позволила. Я вот уезжаю в Германию, а вы остаетесь здесь и чего доброго действительно отравитесь. Что же было делать? Я покорился судьбе»[43].
В последующие месяцы события развивались с катастрофической быстротой. И вот, наконец, второго мая советская армия, преодолев ожесточенное сопротивление немцев, завершила взятие Берлина штурмом Рейхстага, над которым взвилось красное знамя. Девятого мая наголову разбитая Германия наконец капитулировала. В ближайшие же дни в Праге стало известно, что американцы заняли Пльзень – всего в ста с небольшим километрах от Праги. Все ждали, что американские танки вскоре появятся на улицах города. В их ожидании собрались толпы пражан, вышедших встречать победителей. Люди стояли вдоль улиц, вероятно, несколько часов, но ни один американский танк так и не появился: «К вечеру поползли слухи о том, что в город придут не союзники, а Красная Армия. Так ее называли по старинке. Уходить было некуда, да к тому же за последние недели я совершенно потерял чувство инициативы. По временам только открывал свой шкап, посматривал на пушкинские папки и мой скромный гардероб. Снова и снова задавал себе вопрос: «вариант А или Б?» На случай варианта «Б» я в тот день, когда докторша не принесла мне на вокзал яду, заготовил хорошую прочную веревку с соответствующей петлей, которая хранилась в моем чемодане. Под кроватью стоял предмет более интересный. Это была бутылка красного вина, подаренная мне доцентом Кафкой, для того чтобы отпраздновать освобождение Праги согласно варианту «А». Утром 9 мая моя хозяйка позвала меня к себе в столовую слушать радио. Диктор несколько раз повторил одно и то же сообщение: «Красная Армия входит в город». Пани Марышева спросила меня встревоженно:
– Что же вы думаете делать, доктор?
– Что я думаю делать? Ничего. Пойду сейчас смотреть, что делается на улице.
Поздравил хозяйку и ее дочь с окончанием войны, до которого они благополучно дожили. ‹… › о существовании веревки на предмет варианта «Б», который начал осуществляться, я совершенно забыл. Положил в портфель завернутую в газету бутылку варианта «А» и поскорее пошел навестить Олю. По дороге пришлось перелезть через несколько баррикад, но их уже никто не охранял. Никаких войск в городе еще не было. Полусонная Оля, открыв дверь, недовольным голосом спросила меня, отчего я так рано.
– Оленька, война кончилась! Красная Армия вступает в город. Она с криком бросилась мне на шею. Мы решили пройти к Гвоздиковым. Сидя на диване в их комнате, я через открытое окно увидел первый советский танк, который медленно шел где-то в конце улицы. Ни Олю, ни барышень Гвоздиковых я никогда не называл девушками, а тем более девочками. Но сейчас я внезапно вспомнил, что каждая из них вдвое моложе меня и сказал во всеуслышание:
– Девочки, вот ползет моя смерть. Это конец.
Меня обняли и Оля и Галя.
– Что вы, Николай Алексеевич, вы будете еще жить долго, хорошо жить.
Полуеврейка Нина сказала мне:
– Николай Алексеевич, это пришла наша армия, русская армия.
– Нет, девочки, конец, – повторил я с безнадежным спокойствием. Но затем постарался взять себя в руки и приободриться»[44].
Еще несколько выдержек из воспоминаний Николая Алексеевича очень точно передают атмосферу и общее настроение, царившее в те дни, а некоторые детали весьма интересны и познавательны: «Я забежал домой на насколько минут для того, чтобы сделать то, что согласно заранее обдуманному плану надо было исполнить еще утром. Я растопил печку и бросил в огонь Уставы Галлиполийского союза и газету новопоколенцев с призывом убить Кирова. О лежавшей в чемодане прочной веревке снова не вспомнил. Невозможно было думать о смерти в этот день всеобщего ликования, поцелуев, цветов и победных кликов. Потом я снова отправился к Оле. На Карловом намести недалеко от тюрьмы я увидел расходившуюся толпу людей, которые о чем-то оживленно говорили. Оказалось, что здесь совсем недавно какие-то парни раздели догола немецкую девушку, будто бы служившую в гестапо, и повесили ее за ногу на придорожном фонаре. Некоторые проходившие мимо мужчины тушили об ее тело свои сигареты. Подошел советский офицер, велел снять повешенную, которая уже потеряла сознание, вызвать скорую помощь и отправить ее в больницу. Приказание было исполнено. Немного дальше я встретил молодого русского хирурга, который ночью дежурил в своей клинике. Туда доставили двух совсем маленьких немецких мальчиков, у которых какие-то изверги вырезали языки. Молодому хирургу пришлось их зашивать.
Когда мы встретились с Олей, я не рассказал ей об этих ужасах. Оля была охвачена победным угаром. Поведала мне, что день сегодня необыкновенный, замечательный. Она уже, оказывается, успела влезть на танк, протанцевала там чечетку, а потом читала солдатам стихи Есенина и свои собственные. Один молодой сержант, очень славный, сразу же в нее влюбился и, обращаясь на «ты», предложил ей сойтись с ним, а после ехать в Советский Союз: там хорошо, у них замечательный сад и мама такая хорошая. Все будет хорошо. Она со смехом ответила, что у нее муж и ребенок, а сержант настаивал на своем: «Так ты разведись с мужем, а дочку мы увезем к нам». Напористый был сержант, но славный, очень славный.
Пообедали мы в небольшом ресторане, причем хозяин ни с кого не брал денег. Это было уже совсем нечто необыкновенное. Мне он заявил:
– Русские нас спасли, и белые, и красные»[45].
На следующий день десятого мая Николай Алексеевич начал свои прощальные посещения оставшихся в Праге немногочисленных уже друзей… Двенадцатого утром он сделает в дневнике последнюю краткую запись: «Пока что я не жалею о том, что не принял яда».
А вечером, вернувшись домой, Николай Алексеевич застанет там двоих – молодого офицера в военной форме и второго, штатского человека в черной кожаной куртке. Все было предельно ясно. Произведя тщательный обыск, Раевского увезли, сказав, что он задержан для проверки. После первого же допроса, на котором ему было предложено подробно рассказать, кто он, где служил в Гражданскую войну, что делал в Праге, почему не вернулся в Советский Союз и так далее, капитан, проводивший допрос, прочел постановление об его аресте. Через несколько дней Раевскому было объявлено постановление прокурора о привлечении к суду по целому ряду статей, по каждой из которых мог последовать смертный приговор. Например, статья «Участие в Гражданской войне» приравнивалась к вооруженному восстанию против советской власти.
«Мы оставались на вилле Гайды[46] еще около недели. – вспоминает он позже. – Было время поразмышлять как следует, и я пришел к тому заключению, что мне, галлиполийцу, не подобает молча ждать решения своей участи. Я подал заявление на имя прокурора, суть которого заключалась в том, что, прекратив безнадежную борьбу против советской власти, я тем не менее остаюсь ее убежденным противником, так как личность в Советском Союзе не пользуется достаточной свободой. Все те же более осведомленные заключенные нашли мой поступок безумным»[47]. Но, как выяснится впоследствии, этот поступок сыграл, возможно, решающую роль в дальнейшем ходе событий. К этому эпизоду мы еще вернемся.
«На вилле генерала Гайды мы пробыли еще около недели. Советская тюремная дисциплина, надо сказать, оказалась совсем не похожей на издевательскую немецкую. Физиономий не били, не заставляли передвигаться по зданию обязательно бегом, никто не стоял в ожидании допроса у стены, уткнувшись в нее носом, но только кончиком носа. Вначале я не знал, как, собственно, называется то учреждение, которое нас арестовало и держало на вилле. А учреждение оказалось самое страшное – Смерш – сокращение слов «смерть шпионам». Только этого еще не хватало в моей скромной биографии. Однажды после утреннего завтрака – кружки чая с хлебом – нам наконец приказали приготовиться к отъезду. Перед виллой стояло два грузовика и легковая машина. Вслед за нами из учреждения вышел начальник учреждения полковник и старший лейтенант, по всему судя, человек, несомненно, жестокий. Я попросил разрешения обратиться к полковнику. Он ответил вежливо:
– Говорите, что вам нужно.
Я доложил, что при обыске у меня изъяты папки с документами по Пушкину, а в них, мол, есть то-то и то-то. Полковник ответил успокоительно:
– Не беспокойтесь, все в порядке. Чемодан пойдет с вами.
Заговорил злобный помощник:
– Товарищ полковник, я у него там нашел список умерших членов организации.
– Это нам не нужно. Мы с мертвыми не воюем.
Старший лейтенант не унимался:
– Товарищ полковник, против фамилии капитана Трофимова отметка «пал смертью храбрых в Советском Союзе».
– Вечная память. Мы не воюем с мертвыми.
Старший лейтенант чуть заметно улыбнулся. Улыбнулся сдержанно, но весьма неодобрительно. Вероятно, он не в ладах со своим начальством»[48]. И вот грузовики с заключенными медленно двинулись в путь – сначала на север Чехии, где пересекли границу с Германией неподалеку от города Теплице. Из своего грузовика Раевский сможет в последний раз увидеть огромный замок и старинный парк, мимо которого очень тихим ходом шли машины. Здесь, в этом старинном замке, жила дочь графини Фикельмон, княгиня Кляри-и-Альдринген, и сюда же часто наезжала ее мать, графиня Долли Фикельмон… Легко можно представить, какие чувства испытывал тогда заключенный Раевский, проезжая совсем близко от ворот Теплицкого замка, так тесно связанного с именем горячо им любимого Пушкина… Затем грузовики проехали через разбомбленный Дрезден, где их задержали на несколько дней (для Раевского это обстоятельство так и осталось загадкой, поскольку в Дрездене совершенно ничего не происходило). Затем, проделав долгий и сложный путь назад, двигаясь теперь на юг, пересекли границу с Чехословакией еще два раза и оказались уже в Австрии, где под Веной, в маленьком курортном городке Бадене и состоялся суд.
Именно там, в Бадене, был расположен один из крупных военных штабов – штаб Центральной группы войск. При нем имелся военный суд, состоявший из квалифицированных юристов. В тюрьме знающие советские порядки люди объяснили остальным заключенным, что они много выиграли, попав в ведение этого суда.
«В этот же день дежурный солдат провел меня в комнату военного следователя, которому было поручено мое дело. Им оказался молодой еще капитан с академическим значком. Для первого, так сказать, знакомства он заявил мне:
– Имейте в виду, Раевский, что если вы попытаетесь доказывать мне, что вы только случайно приняли участие в Гражданской войне на стороне белых, то я вам не поверю. Я ответил, что такого намерения у меня вовсе нет. Я доброволец и принял участие в Гражданской войне на стороне белых совершенно сознательно. Капитан, видимо, остался доволен моим ответом и приступил к подробному допросу. Он вел его настойчиво, но вполне вежливо. Чувствовался опытный человек с основательной юридической подготовкой. Мне, сыну и внуку юристов, это сразу стало заметно»[49].
Николаю Алексеевичу было объявлено, что на днях состоится суд по его делу. Следователь вручил арестованному «Уголовный кодекс СССР» и приказал с ним ознакомиться. «Перелистывая кодекс, я нашел те статьи, по которым мне было предъявлено обвинение в Кладно. Убедился в том, что по каждой из них возможна высшая мера наказания»[50]. На следующее утро, около десяти часов, за арестантом Раевским пришел дежурный сержант и провел его в зал суда, где за столом, покрытым красным сукном, уже сидели трое судей и секретарь. Председательское место занимал полковник с юридическим значком на кителе. Он объявил заседание открытым, следом объявил, что в распорядительном заседании суд отменил все те статьи, по которым было ранее предъявлено обвинение, и теперь Раевский обвиняется только в том, что он содействовал международной буржуазии в ее борьбе с советской властью (статья 58, пункт 4 «Уложения о наказаниях»). Полковник прибавил еще, что в исключительно тяжелых случаях по этой статье также может быть применена высшая мера наказания. Далее начался допрос, но прежде чем перейти к делу, председатель вдруг заявил, что суд желает выслушать сначала рассказ о работах Николая Алексеевича по Пушкину, что для Раевского оказалось совершенно неожиданным. «Я, конечно, обрадовался. Признак, несомненно, хороший. Из подсудимого я на время превращался в докладчика по пушкинским делам. Полковник к тому же приказал мне подать стул и, сидя на нем, я экспромтом сделал приблизительно полуторачасовой научный доклад о своих работах. Судьи и секретарша слушали его с несомненным интересом. Полковник задал мне ряд дополнительных вопросов, касавшихся различных фактов пушкинской биографии, и, судя по этим вопросам, я понял, что председатель военного суда недурно знаком с современным состоянием науки о Пушкине. Со стороны, вероятно, было бы несколько странно услышать, что подсудимому контрреволюционеру задается, например, такой вопрос: «Так вы утверждаете, что только Александре Николаевне Пушкин сказал о предстоящей дуэли?»
