Читать онлайн Позже бесплатно
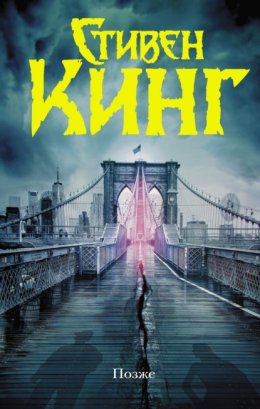
Я не люблю начинать с извинений – возможно, даже есть правило, запрещающее подобный прием, вроде правила, что предложение не должно оканчиваться предлогом, – но, перечитав первые тридцать страниц, я подумал, что извиниться все-таки надо. Извиниться за частое употребление слова из пяти букв, начинающегося на «п». Нет, это не то, о чем вы подумали. Хотя то слово, как и много других нехороших слов, перенятых у мамы, я тоже знал с юных лет (в чем вам еще предстоит убедиться). Я имею в виду слово «позже» в таких сочетаниях, как «позже я выяснил» или «только позже я понял». Да, оно повторяется слишком часто, но я не знаю, как построить рассказ по-другому, потому что моя история начинается в те времена, когда я еще верил в Санта-Клауса и зубную фею (хотя даже в шесть лет у меня уже были сомнения). Сейчас мне двадцать два, и «позже» вроде как наступило, да? Наверное, когда мне исполнится сорок – при условии, что я доживу до такого возраста, – я вспомню все, что, как мне представлялось, понимал в двадцать два года, и приду к выводу, что очень многого не понимал. Всегда есть какое-то «позже», теперь я это знаю. По крайней мере, пока мы не умрем. А потом, видимо, наступает все, что было раньше.
Меня зовут Джейми Конклин, и когда-то давным-давно я нарисовал индейку ко Дню благодарения. Мне казалось, что она офигенная. Позже – причем ненамного позже – выяснилось, что она откровенно фиговая. Иногда правда бывает паршивой.
Мне кажется, это будет история в жанре ужасов. Смотрите сами.
1
Я возвращался домой из школы вместе с мамой. Она держала меня за руку. В другой руке я сжимал свой рисунок – индейку, которую мы рисовали в первом классе за неделю до Дня благодарения. Я чертовски гордился своей индейкой. Делалась она так: ты клал руку на кусок картона и обводил мелком. Получались туловище и хвост. А голову ты дорисовывал сам.
Я показал маме индейку, и мама сказала «ага-ага» и «да-да-да, очень круто», но вряд ли она ее видела по-настоящему. Наверняка думала о чем-то другом. Может быть, о какой-то из книг, которые пыталась продать. «Продвинуть продукт», как она это называла. Мама, чтобы вы понимали, была литературным агентом. Изначально агентство принадлежало ее брату, моему дяде Гарри, но перешло к маме за год до описываемых событий. Это долгая и совсем невеселая история.
– Я ее сделал зеленой, потому что это мой любимый цвет, – пояснил я. – Ты же знаешь, да?
Мы уже подходили к дому. Всего в трех кварталах от школы.
Мама сказала «ага-ага». И добавила:
– Когда придем домой, займись чем-нибудь, поиграй или посмотри «Барни» или «Волшебный школьный автобус». Мне надо сделать миллион звонков.
Теперь уже я сказал «ага-ага», и мама ткнула меня пальцем в бок и улыбнулась. Я любил, когда она улыбалась – когда у меня получалось заставить ее улыбнуться, – потому что даже в шесть лет понимал, что мама слишком серьезно относится к жизни. Позже я выяснил, что отчасти из-за меня. Она боялась, что я ненормальный. В тот день, о котором идет рассказ, она окончательно убедилась, что я все-таки не сумасшедший. С одной стороны, это было большим облегчением, но с другой – может, и нет.
– Ни с кем об этом не говори, Джейми, – сказала она позже в тот день. – Только со мной. А может, и со мной не говори. Хорошо?
Я сказал, хорошо. Когда ты еще маленький, во всем соглашаешься с мамой. Если только она не велит идти спать. Или доесть брокколи.
Мы вошли в наш подъезд, и лифт все еще не работал. Можно сказать, что все было бы по-другому, если бы лифт уже починили, но мне так не кажется. Мне кажется, люди, утверждающие, что все в жизни зависит от нашего выбора, просто гонят пургу. Потому что, смотрите, в лифте или по лестнице, мы все равно поднялись бы на третий этаж. Когда в тебя тычет перст судьбы, все дороги ведут в одно место. Таково мое мнение. Может быть, с возрастом я его изменю, но скорее всего нет.
– Гребаный лифт, – сказала мама и быстро добавила: – Ты ничего не слышал, малыш.
– Чего не слышал? – спросил я, и мама опять улыбнулась. В последний раз за тот день. Я предложил взять у нее сумку с рукописью, довольно объемной, страниц на пятьсот (пока мама ждала меня после уроков, она обычно читала на лавочке во дворе, если погода была хорошая). Мама сказала:
– Спасибо за предложение, но что я тебе всегда говорю?
– В жизни каждый несет свою ношу.
– Вот именно.
– Это Риджис Томас? – спросил я.
– Да, старый добрый Риджис, наш кормилец.
– Что-то про Роанок?
– Надо ли спрашивать, Джейми?
Я тихонько хихикнул. Старый добрый Риджис писал только про Роанок. Это была его ноша по жизни.
Мы поднялись по лестнице на третий этаж, где было всего три квартиры. Наша, в конце коридора, была самой лучшей. Мистер и миссис Беркетты стояли у двери в квартиру 3А, и я сразу понял, что что-то случилось, поскольку мистер Беркетт курил сигарету. Я впервые увидел его курящим. К тому же у нас в доме было категорически запрещено курение. Глаза у мистера Беркетта покраснели, седые волосы стояли торчком. Я всегда называл его мистером, хотя на самом деле он был профессором и преподавал что-то умное в Нью-Йоркском университете. Английскую и европейскую литературу, как я выяснил позже. Миссис Беркетт была босиком и в одной ночной рубашке. Очень тонкой ночной рубашке. Мне были видны почти все ее женские прелести.
– Марти, что случилось? – спросила мама.
Прежде чем он успел ответить, я показал ему свою индейку. Потому что он был очень грустным и мне хотелось его развеселить, но еще и потому, что я гордился своим рисунком.
– Мистер Беркетт, смотрите! Я нарисовал индейку! Смотрите, миссис Беркетт! – Я поднял лист, держа его прямо перед лицом, чтобы миссис Беркетт не подумала, что я разглядываю ее прелести.
Мистер Беркетт не обратил на меня внимания. Я вообще не уверен, что он меня слышал.
– Тия, это такое горе… Мона скончалась сегодня утром.
Мама уронила к ногам сумку с рукописью и прижала ладонь ко рту.
– Нет! Скажите, что это неправда!
Мистер Беркетт заплакал.
– Она встала ночью, сказала, что хочет пить. Я потом сразу уснул, а утром смотрю: она лежит на диване, натянув одеяло до подбородка. Я на цыпочках прошел в кухню и поставил вариться кофе. Подумал, приятный запах ее ра-ра-разбу… разбудит…
Тут он разрыдался уже всерьез. Мама крепко его обняла, как обнимала меня, когда мне было больно, хотя мистеру Беркетту было, наверное, сто лет (семьдесят четыре, как я выяснил позже).
Вот тогда-то со мной и заговорила миссис Беркетт. Слышно ее было плохо, но не так плохо, как некоторых других, потому что она была еще «свеженькой».
– Не бывает зеленых индеек, Джеймс, – сказала она.
– У меня бывает, – ответил я.
Мама по-прежнему обнимала мистера Беркетта и как бы баюкала его в объятиях. Они не слышали миссис Беркетт, потому что вообще не могли ее слышать, а меня – потому что занимались своими взрослыми делами: мистер Беркетт рыдал, а мама его утешала.
Мистер Беркетт проговорил сквозь слезы:
– Я позвонил доктору Аллену, и он пришел и сказал, что у нее, видимо, случился угар. – По крайней мере, мне показалось, что он так сказал. Он так горько плакал, что я с трудом разбирал слова. – Он сам позвонил в похоронное бюро. Они ее увезли. Не знаю, как я теперь без нее буду жить.
– Если мой муж так и будет размахивать сигаретой, он подпалит волосы твоей маме, – сказала миссис Беркетт.
И конечно же, так и случилось. Я почувствовал запах паленых волос. Такой запах обычно бывает в парикмахерских. Мама вежливо промолчала, но разжала объятия, отобрала у мистера Беркетта сигарету, бросила ее на пол и затушила ногой. Я подумал, что так нельзя – нельзя мусорить в подъезде, – но ничего не сказал. Я понимал, что сегодня особый случай.
И еще я понимал, что если продолжу беседовать с миссис Беркетт, то наверняка напугаю мистера Беркетта. И маму тоже. Даже ребенок, если он не совсем слабоумный, способен уразуметь элементарные вещи. Не забывай говорить «пожалуйста» и «спасибо», не размахивай пиписькой у всех на виду, не жуй с открытым ртом и не разговаривай с мертвыми в присутствии живых, которые только начинают по ним скорбеть. Скажу в свое оправдание, что я не понял, что миссис Беркетт мертва, когда только увидел ее в коридоре. Позже я научился различать мертвецов, но тогда я еще этого не умел. Полупрозрачной была ночная рубашка, но не сама миссис Беркетт. Мертвецы выглядят в точности как живые, но всегда носят одежду, в которой умерли.
Мистер Беркетт тем временем пересказывал маме, как все было. Как он сидел на полу у дивана и держал жену за руку, пока не приехал врач, а потом снова сидел и держал, пока не прибыл гробовщик и не увез ее в похоронное бюро. «Забрал ее», так он выразился, и я понял, о чем речь, только когда мама мне объяснила. И сперва я подумал, что речь идет о парикмахерской, возможно, из-за запаха маминых жженых волос, которые мистер Беркетт подпалил своей сигаретой. Он почти перестал плакать, но теперь вновь разрыдался.
– Ее кольца пропали, – проговорил он сквозь слезы. – И обручальное кольцо, и помолвочное, с большим бриллиантом. Я смотрел на тумбочке у кровати, обычно Мона клала их туда, когда мазала руки этим вонючим кремом от артрита…
– Крем и вправду не благоухает, – согласилась миссис Беркетт. – Ланолин – это, по сути, шерстяной воск, но он действительно помогает.
Я кивнул, чтобы она поняла, что я слушаю, но ничего не сказал.
– …и на раковине в ванной, потому что она иногда оставляет их там… я смотрел везде.
– Они найдутся, – успокоила его мама и вновь обняла мистера Беркетта, потому что теперь ее волосам ничто не угрожало. – Они найдутся, Марти, не волнуйтесь.
– Мне так ее не хватает! Мне уже ее не хватает!
Миссис Беркетт помахала рукой у себя перед лицом.
– Не пройдет и полутора месяцев, как он пригласит на обед Долорес Магован.
Мистер Беркетт рыдал, моя мама его утешала, как утешала меня, когда я поцарапал коленку или пролил кипяток себе на руку, пытаясь налить маме чаю. В общем, шум стоял на весь коридор, и я решился тихонько спросить:
– Где ваши кольца, миссис Беркетт? Вы знаете?
Мертвым положено говорить правду. В шесть лет я этого еще не знал; я был уверен, что все взрослые – и живые, и мертвые – всегда говорят только правду. Конечно, в то время я верил, что сказочная Златовласка – реальная девочка. Если хотите, считайте меня дурачком. Но я хотя бы не верил, что три медведя и впрямь говорили человеческим голосом.
– В шкафу в коридоре, на верхней полке, – сказала миссис Беркетт. – У задней стенки, за старыми альбомами.
– Почему там? – спросил я, и мама странно на меня посмотрела. С ее точки зрения, я разговаривал с пустым дверным проемом… хотя она уже знала, что я не такой, как другие дети. После случая в Центральном парке, жутковатого случая – о нем я еще расскажу, – я случайно подслушал, как в разговоре с редактором по телефону мама назвала меня «фейри». Я тогда страшно перепугался, потому что подумал, что она собирается переименовать меня в Фейри, а это какое-то девчачье имя.
– Не имею ни малейшего представления, – сказала миссис Беркетт. – Наверное, у меня уже случился удар. Все мои мысли утонули в крови.
Мысли утонули в крови. Никогда этого не забуду.
Мама спросила, не хочет ли мистер Беркетт зайти к нам выпить чаю («или чего покрепче»), но он сказал, нет, спасибо, он лучше еще раз поищет пропавшие кольца жены. Мама спросила, не занести ли ему еды из китайского ресторана, которую она собиралась заказать нам на ужин, и мистер Беркетт ответил, что это было бы здорово, спасибо, Тия.
Мама сказала de nada[1] (это словечко она употребляла почти так же часто, как «ага-ага» и «да-да-да») и добавила, что мы занесем ему еду около шести вечера, если только он не захочет поужинать с нами, у нас. Он сказал, нет, спасибо, он хочет поужинать у себя дома, но будет рад, если мы составим ему компанию. Только, если дословно, он сказал не «у себя», а «у нас», как будто миссис Беркетт была еще жива. Но она была мертвой, хотя и стояла с нами в коридоре.
– Наверняка к тому времени кольца найдутся, – сказала мама и взяла меня за руку. – Пойдем, Джейми. Мы зайдем к мистеру Беркетту позже, а сейчас ему надо побыть одному.
Миссис Беркетт сказала:
– Не бывает зеленых индеек, Джейми, а у тебя даже и не индейка, а просто клякса, из которой торчат пальцы. Ты уж точно не Рембрандт.
Мертвым положено говорить правду, и это нормально, когда тебе надо о чем-то спросить и услышать ответ, но, как я уже говорил, иногда правда бывает паршивой. Я разозлился на миссис Беркетт, но она вдруг расплакалась, и мне расхотелось на нее злиться. Она повернулась к мистеру Беркетту и сказала:
– Кто теперь проследит, чтобы ты не пропускал петельку сзади на штанах, когда вдеваешь ремень? Долорес Магован? Ага, ждите. – Она поцеловала его в щеку… или воздух рядом с его щекой, я толком не разглядел. – Я любила тебя, Марти. И люблю до сих пор.
Мистер Беркетт поднял руку и потер то место, которого она коснулась губами, словно у него зачесалась щека. Наверное, именно так он и подумал.
2
Так что да, я вижу мертвых. Сколько я себя помню, столько и вижу. Но не так, как в том фильме с Брюсом Уиллисом. Это может быть интересно, может быть страшно (как с тем дяденькой в Центральном парке), иногда это бесит, но обычно все происходит вполне буднично. Просто таким я родился. Вроде того, как люди рождаются левшами, или уже в три года проявляют способности к исполнению классической музыки, или страдают болезнью Альцгеймера с ранним началом, как это случилось с моим дядей Гарри, когда ему было всего сорок два года. В шесть лет мне казалось, что сорок два – уже старость, но даже тогда я понимал, что это все-таки рановато, чтобы забыть, кто ты такой. Или забыть, как называются все окружающие предметы – почему-то именно это пугало меня сильнее всего, когда мы ездили навещать дядю Гарри. Его мысли не утонули в крови от кровоизлияния в мозг, но они все равно утонули.
Мы подошли к нашей квартире, 3С, и мама открыла дверь. Ей пришлось повозиться с ключами, потому что дверь запиралась на три замка. Мама однажды сказала, что такова цена красивой жизни. У нас была большая шестикомнатная квартира с видом на Парк-авеню. Мама называла ее нашим «Парковым дворцом». Дважды в неделю к нам приходила уборщица. Мамин «ренджровер» стоял в гараже на Второй авеню, и иногда мы на нем ездили в Спеонк к дяде Гарри. Благодаря Риджису Томасу и некоторым другим авторам (но в основном все-таки старому доброму Риджису) мы жили, что называется, на широкую ногу. Так продолжалось недолго, вскоре все изменилось – и не в лучшую сторону, – о чем я еще расскажу. Теперь, глядя в прошлое, я иногда думаю, что жил как бы в романе Диккенса, только с нецензурной бранью.
Мама бросила на диван сумку с рукописью и уселась сама. Диван издал звук, как будто кто-то перднул. Обычно он нас смешил, но в тот день нам было не до смеха.
– Пипец, – сказала мама и тут же шлепнула себя по губам. – Ты…
– Я ничего не слышал, – быстро проговорил я.
– Хорошо. Надо бы завести себе ошейник с электрошокером, чтобы меня било током каждый раз, когда я матерюсь при ребенке. Чтобы была мне наука. – Она выпятила нижнюю губу и сдула с глаз челку. – Мне надо прочесть еще двести страниц новой книги Риджиса…
– Как она называется? – спросил я, уже зная, что в названии обязательно будет присутствовать слово «Роанок». Оно было в названиях всех его книг.
– «Дева-призрак Роанока». Кстати, вполне неплохая книга. Одна из лучших у Риджиса. Куча се… поцелуйчиков и обнимашек.
Я сморщил нос.
– Прости, малыш, но взрослым тетенькам нравятся все эти трепещущие сердца и горячие бедра. – Она посмотрела на сумку, в которой лежала рукопись «Девы-призрака Роанока», стянутая, как обычно, несколькими канцелярскими резинками. Эти резинки постоянно рвались, в связи с чем мама всегда выдавала изрядную порцию своих лучших ругательств. Многие из которых я использую до сих пор. – Мне сейчас совершенно не хочется ничего делать, разве что выпить бокал вина. Или даже целую бутылку. Мона Беркетт была та еще язва, и, возможно, ему без нее будет лучше, но сейчас он убит горем. Надеюсь, у него есть какие-то родственники, а то меня как-то совсем не прельщает выступить в роли главной утешительницы.
– Она тоже его любила, – сказал я.
Мама странно на меня посмотрела.
– Да? Ты так думаешь?
– Я точно знаю. Она обругала мою индейку, но потом заплакала и поцеловала его в щеку.
– Тебе померещилось, Джеймс, – сказала мама, но как-то не слишком уверенно. Тогда она уже знала, не сомневаюсь, что знала, но взрослым трудно поверить в то, что им кажется невозможным, и я объясню почему. Когда еще в детстве они узнают, что Санта-Клауса не существует, Златовласка – не настоящая девочка, а пасхальный заяц – сплошная выдумка (это лишь три примера, я могу привести больше), у них образуется комплекс, и они перестают верить в то, чего не видят своими глазами.
– Не померещилось. Она сказала, что я никакой не Рембрандт. А кто это?
– Художник, – ответила мама и опять сдула с глаз челку. Не знаю, почему она не подстриглась короче или не изменила прическу. Ей пошла бы любая прическа. Мама всегда была очень красивой.
– Когда мы пойдем к мистеру Беркетту, даже не заикайся о том, что, как тебе кажется, ты увидел.
– Хорошо, – сказал я, – но миссис Беркетт была права. У меня получилась паршивая индейка.
Честно сказать, я расстроился.
Видимо, это отразилось у меня на лице, потому что мама раскинула руки.
– Иди ко мне, малыш.
Я подошел и обнял маму.
– У тебя очень красивая индейка. Я в жизни не видела таких красивых индеек. Я повешу ее на холодильник, и она останется там навсегда.
Я еще крепче сжал маму в объятиях, уткнулся лицом ей в ключицу и вдохнул запах ее духов.
– Я люблю тебя, мам.
– Я тоже тебя люблю, Джейми, очень-очень люблю. А теперь иди поиграй или посмотри телевизор. Мне надо сделать кучу звонков по работе, а потом мы закажем китайской еды и пойдем к мистеру Беркетту.
– Хорошо. – Я пошел в свою комнату, но остановился в дверях. – Она положила кольца в шкаф в коридоре, на верхнюю полку, за старыми альбомами.
Мама уставилась на меня, открыв рот.
– Зачем ей так делать?
– Я спросил, и она мне ответила, что не знает. Сказала, что ее мысли уже утонули в крови.
– О боже, – прошептала мама и схватилась рукой за шею.
– Подумай, как лучше сказать ему, где лежат кольца. Чтобы он не волновался. Можно мне курицу в сладком соусе?
– Можно, – кивнула мама. – Но с коричневым рисом, не с белым.
– Да-да-да, – сказал я и пошел играть с «Лего». Я строил робота.
3
Квартира Беркеттов была меньше нашей, но тоже хорошей. После ужина, когда мы разламывали печенья с предсказаниями (мне досталось «Синица в руках лучше, чем журавль в небе», совершенно бессмысленная ерунда), мама спросила:
– Марти, вы смотрели в шкафах? Может, она положила свои кольца в шкаф?
– Зачем бы ей класть кольца в шкаф?
Резонный вопрос.
– Ну, у нее был удар. Может, она мало что соображала.
Мы ужинали за маленьким круглым столом в углу кухни. Миссис Беркетт, сидевшая на табурете у разделочного стола, горячо закивала, когда мама заговорила о кольцах.
– Я потом посмотрю, – устало проговорил мистер Беркетт. – Сейчас у меня просто нет сил.
– Когда соберетесь смотреть, проверьте шкаф в спальне, – сказала мама. – А я прямо сейчас посмотрю в коридоре. Мне надо немного размяться после плотного ужина.
Миссис Беркетт спросила:
– Она сама додумалась? Я и не знала, что она такая смышленая.
Мне уже было трудно расслышать, что она говорит. Скоро я вообще перестану слышать ее слова, но какое-то время еще буду видеть, как она беззвучно шевелит губами, словно нас разделяет панель из толстого стекла. А потом миссис Беркетт исчезнет окончательно.
– У меня очень умная мама, – сказал я.
– Никогда в этом не сомневался, – отозвался мистер Беркетт, – но если она найдет кольца Моны в шкафу в коридоре, я съем свою шляпу.
И тут раздался мамин возглас:
– Есть!
Мама вернулась в кухню, держа на раскрытой ладони два кольца. Обручальное кольцо было самым обыкновенным, зато на помолвочном сверкал бриллиант размером с глазное яблоко.
– О боже! – воскликнул мистер Беркетт. – Но как, скажите на милость…
– Я помолилась святому Антонию. – Мама улыбнулась, украдкой взглянув на меня. – «Тони, Тони, приходи, что потеряно, найди». И, как видите, помогло.
Мне хотелось спросить у мистера Беркетта, как он будет есть свою шляпу, с солью и перцем или просто так, но я промолчал. Это было не самое подходящее время для шуток. К тому же, как всегда говорит моя мама, умников никто не любит.
4
Похороны состоялись через три дня. Я впервые попал на такое мероприятие, и там было даже интересно, хотя, понятно, невесело. Маме все-таки не пришлось выступать в роли главной утешительницы. Как оказалось, у мистера Беркетта были брат и сестра, которые этим занялись. Они были старыми, но все-таки не такими старыми, как сам мистер Беркетт. Он проплакал всю панихиду, и сестра только и делала, что передавала ему бумажные платки. Кажется, у нее в сумке были целые залежи бумажных платков. Удивительно, как там нашлось место для чего-то еще.
В тот вечер мама заказала на ужин пиццу из «Доминос». Мама пила вино, а мне сделала «Кул-эйд» в награду за то, что я хорошо себя вел на похоронах. Когда мы уже доедали пиццу, мама спросила, видел ли я миссис Беркетт в церкви.
– Да. Она сидела на ступеньках у этой штуки, за которой стоял священник.
– Это кафедра. А миссис Беркетт… – Мама взяла из коробки последний кусочек пиццы, задумчиво на него посмотрела, положила обратно и обернулась ко мне. – Она была полупрозрачной?
– Как призраки в фильмах?
– Да, как призраки в фильмах.
– Нет. Она была плотной, как живой человек, хотя по-прежнему в ночной рубашке. Я удивился, что ее еще видно, ведь она умерла уже три дня назад. Обычно они так долго не держатся.
– Они исчезают? Просто исчезают? – Мама хмурилась, словно пытаясь уложить все в голове. Было видно, что ей неприятен этот разговор, но я был рад, что она все-таки заговорила. Мне стало легче.
– Да.
– Что она делала, Джейми?
– Просто сидела. Пару раз взглянула на свой гроб, но почти все время смотрела только на него.
– На мистера Беркетта. Марти.
– Да. Один раз она что-то сказала, но я не услышал. Когда они умирают, совсем скоро их голоса затихают, как бывает, когда приглушаешь радио в машине. Их еще видно, но уже не слышно.
– А потом они исчезают.
– Да. – У меня в горле встал ком, и я быстро допил свой «Кул-эйд», чтобы избавиться от него. – Исчезают.
– Помоги мне убрать со стола, – сказала мама. – А потом, если хочешь, посмотрим серию «Торчвуда».
– Давай! Будет круто!
На самом деле мне не особенно нравился «Торчвуд», но лечь спать на час позже обычного времени – вот это действительно было круто.
– Договорились. Но только сегодня, в виде исключения. И сначала мне надо сказать тебе одну вещь. Это очень серьезно, поэтому слушай внимательно. Очень-очень внимательно.
– Хорошо.
Мама опустилась на одно колено, так, что наши лица оказались примерно вровень, и взяла меня за плечи. Ласково, но твердо.
– Никогда никому не рассказывай, что видишь мертвых, Джеймс. Никогда.
– Все равно мне никто не поверит. Ты сама тоже не верила.
– Чему-то я верила. После того случая в Центральном парке. Ты помнишь? – Она сдула с глаз челку. – Конечно, помнишь. Как такое забудешь?
– Я помню.
Хотя лучше бы мне такого не помнить.
Мама по-прежнему стояла на одном колене, глядя мне прямо в глаза.
– Так вот, это хорошо, что никто не поверит. Но может так получиться, что когда-нибудь кто-то поверит. Пойдут нехорошие разговоры, и это может быть очень опасно.
– Почему?
– Есть старая пословица, что мертвецы молчат, Джейми. Но они разговаривают с тобой, да? Мертвые разговаривают с тобой. Ты говорил, что, когда задаешь им вопросы, они всегда отвечают правду. Как будто смерть – это доза пентотала натрия.
Я не знал, что такое пентотал натрия, и, наверное, это было понятно по моему лицу, потому что мама сказала, что это не важно, главное помнить, что миссис Беркетт честно ответила мне, когда я спросил, где ее кольца.
– Ну, да. И чего? – недоумевал я.
Мне нравилось, что мамины руки лежали у меня на плечах, но не нравился ее пристальный взгляд.
– Это ценные кольца, особенно помолвочное с бриллиантом. Когда люди умирают, они уносят в могилу свои секреты, и всегда есть кто-то, кто желает знать эти секреты, Джейми. Мне не хочется тебя пугать, но иногда страх – единственный способ усвоить урок.
Как тот дяденька в Центральном парке был уроком, что надо всегда быть внимательным на дороге и не садиться на велосипед без шлема, подумал я… но не произнес вслух.
– Я никому ничего не скажу.
– Только мне. Если тебе будет нужно кому-то сказать.
– Хорошо.
– Значит, договорились.
Мама поднялась на ноги, и мы пошли в гостиную смотреть телевизор. Потом я почистил зубы, пописал на ночь и вымыл руки. Когда я лег в постель, мама поцеловала меня и сказала, как говорила всегда:
– Добрых снов, спокойной ночи, пусть приснится, что захочешь.
Обычно после этого прощания мы с ней больше не виделись до утра. Я услышал тихий звон стекла. Это мама налила себе второй (или третий) бокал вина, потом тихонько включила джаз и уселась читать рукопись. Но, наверное, у всех мам есть какое-то шестое чувство, потому что в ту ночь она снова пришла ко мне в комнату и присела на краешек кровати. Или, может быть, она услышала, как я реву, хотя я старался плакать потише. Потому что, как, опять же, всегда говорила мама, лучше быть тем, кто решает проблемы, а не тем, кто их создает.
– Что с тобой, Джейми? – спросила она и погладила меня по голове. – Ты огорчился из-за похорон? Или из-за того, что там была миссис Беркетт?
– Что со мной будет, если ты умрешь, мам? Меня отправят в сиротский приют? Потому что я точно не буду жить с дядей Гарри.
– Конечно, нет, – сказала мама, продолжая гладить меня по голове. – И мы даже не будем говорить о таких глупостях, Джейми, потому что я не умру еще очень и очень долго. Мне тридцать пять лет, и у меня впереди еще целых полжизни.
– А если ты заболеешь, как дядя Гарри, и тебе тоже придется жить в том санатории? – Слезы текли у меня по щекам в три ручья. От того, что мама сидела рядом и гладила меня по голове, мне стало легче, но я почему-то расплакался еще сильнее. – Там так жутко пахнет. Там пахнет мочой!
– Шансы, что это произойдет, настолько ничтожны, что если поставить их рядом с самым крошечным муравьем, муравей будет казаться Годзиллой, – сказала она. Меня рассмешили ее слова, и я даже смог улыбнуться. Теперь я старше и понимаю, что мама либо врала, либо сама ничего толком не знала, но, слава богу, ген, вызывающий раннее начало Альцгеймера – как это произошло с дядей Гарри, – не проявился у мамы.
– Я не умру, ты не умрешь, и вполне может статься, что твоя необычная способность исчезнет с возрастом. Ну, что… у нас все хорошо?
– Да, у нас все хорошо.
– И никаких больше слез, Джейми. А сейчас добрых снов…
– Спокойной ночи, пусть приснится, что захочешь, – закончил я.
– Да-да-да. – Мама поцеловала меня в лоб и ушла. Оставив дверь в мою комнату приоткрытой, как оставляла всегда.
Я не хотел говорить маме, что плачу не из-за похорон и не из-за миссис Беркетт, потому что она была вовсе не страшной. Большинство мертвых совсем не страшные. Хотя тот дяденька с велосипедом в Центральном парке напугал меня до чертиков. Он был кошмарным.
5
Мы ехали по Восемьдесят шестой улице, мама везла меня в Уэйв-Хилл в Бронксе, на день рождения к девочке из моей детсадовской группы. Намечался грандиозный праздник в парке. («К вопросу об избалованных детях», – сказала мама.) Я держал на коленях подарок для Лили. Свернув за угол, мы увидели чуть дальше по улице, прямо на проезжей части, небольшую толпу. Наверное, там случилась авария. Наполовину на дороге, наполовину на тротуаре лежал человек, а рядом валялся искореженный велосипед. Кто-то накрыл лежащего курткой, но накрыл только сверху, с головы до пояса, а ниже были видны черные велосипедные шорты с красными полосками по бокам, наколенники и кроссовки, залитые кровью. Кровь была и на носках, и на ногах. Мы услышали рев приближающихся сирен.
Рядом с лежащим человеком стоял тот же самый человек, в тех же велосипедных шортах и наколенниках. Его седые волосы слиплись от крови. На разбитом лице была вмятина точно посередине – видимо, след от удара о край тротуара. Его нос и рот как бы разломились на две половинки.
Машины, ехавшие впереди, начали притормаживать, и мама сказала:
– Закрой глаза.
Мама, понятно, смотрела на человека, лежащего на земле.
– Он умер! – крикнул я и расплакался. – Этот дяденька умер!
Мы остановились. Нам пришлось остановиться. Потому что остановились все остальные машины, ехавшие перед нами.
– Нет, он не умер, – сказала мама. – Он просто спит. Иногда так бывает, если сильно ударишься. С ним все будет в порядке. Закрой глаза, Джейми.
Я не стал закрывать глаза. Человек с разбитым лицом помахал мне рукой. Они знают, что я их вижу. Они всегда знают.
– У него лицо разломилось на две половинки!
Мама глянула еще раз и убедилась, что лежавший на земле человек был накрыт с головой.
– Не пугай себя, Джейми. Просто закрой гла…
– Он здесь! – Я указал пальцем. Мой палец дрожал. У меня все дрожало. – Прямо здесь, стоит рядом с собой!
Это ее напугало. Причем очень сильно, если судить по тому, как она стиснула зубы. Она со всей силы нажала на клаксон, а другой рукой вдавила кнопку, открывавшую водительское окно. Когда стекло опустилось, мама крикнула, махая рукой стоявшим впереди машинам:
– Поезжайте уже! Бога ради, не стойте! Что вы пялитесь? Это не гребаное кино!
Машины поехали. Все, кроме одной – прямо перед нами. Высунувшись в окно, водитель фотографировал происходящее на телефон. Мама подъехала ближе и слегка подтолкнула его в задний бампер. Он обернулся и показал ей средний палец. Мама сдала чуть назад и вырулила на встречную полосу, чтобы его объехать. Мне хотелось показать ему палец в ответ, но я побоялся.
Лишь чудом избежав столкновения с полицейской машиной, мчавшейся нам навстречу, мама вернулась на свою полосу и поехала к дальнему концу парка на предельно допустимой скорости. Я расстегнул свой ремень, и мама крикнула, чтобы я немедленно пристегнулся обратно, но я не послушался. Я нажал кнопку, чтобы открыть окно, встал на колени на сиденье, высунулся наружу, и меня стошнило, причем так сильно, что я заляпал всю боковую сторону машины. Я не смог удержаться. Когда мы доехали до западной стороны Центрального парка, мама припарковалась у тротуара и вытерла мне лицо рукавом своей блузки. Она, наверное, потом еще надевала ту блузку, но если да, то я не помню.
– Господи, Джейми. Ты весь белый как мел.
– Я не смог удержаться. Я никогда в жизни такого не видел. У него не было носа, а вместо носа торчали кости… – Меня снова стошнило, но на этот раз я сумел вывалить все на дорогу, а не на нашу машину. Да и вываливать уже было практически нечего.
Мама погладила меня по затылку, не обращая внимания на водителя (может быть, это был тот же самый водитель, показавший нам средний палец), который громко нам посигналил и объехал нашу машину.
– Солнышко, это просто твои фантазии. Он был накрыт с головой.
– Накрыт был тот, кто лежал на земле. А не тот, кто стоял рядом с ним. Он мне помахал.
Мама долго смотрела на меня и, кажется, собиралась что-то сказать, но потом передумала и просто застегнула мой ремень.
– Может, пропустим сегодняшний праздник? Как тебе такой вариант?
– Да, давай, – сказал я. – Все равно мне не нравится Лили. Она меня щипет, когда нам читают сказки.
Мы вернулись домой. Мама спросила, смогу ли я удержать в себе чашку какао, и я сказал, что смогу. Мы пили какао в гостиной. Подарок для Лили так и остался неврученным. Это была кукла в матросском костюме. На следующей неделе я отдал ее Лили, и Лили не стала щипаться, а поцеловала меня прямо в губы. Меня потом долго дразнили из-за этого поцелуя, но я был совершенно не против.
Когда мы пили какао (в свое какао мама, наверное, добавила что-то еще), она сказала:
– Еще когда я ходила беременной, я дала себе слово никогда не врать своему ребенку. Так что вот. Тот человек в парке… Он, наверное, и вправду был мертв. – Она секунду помедлила. – Нет, он точно был мертв. Мне кажется, его не спас бы даже шлем, а я не видела шлема.
Да, у него не было шлема. Потому что, если бы он ехал в велосипедном шлеме, когда его сбила машина (потом мы узнали, что это было такси), он стоял бы над собственным телом в шлеме. Мертвые всегда носят одежду, в которой умерли.
– Но ты никак не мог видеть его лицо, Джейми. Кто-то накрыл его курткой. Кто-то очень добрый.
– Он был в футболке с маяком, – сказал я, а потом вспомнил еще кое-что. Да, это слабое утешение, но после таких потрясений даже слабое утешение лучше, чем вообще никакого. – По крайней мере, он был уже старый.
– Почему ты так думаешь? – Мама смотрела на меня странно. Уже теперь, задним числом, я понимаю, что тогда-то она и поверила. Или хотя бы начала верить.
– Он был седой. Если не обращать внимания на кровь в волосах.
Я снова расплакался. Мама обняла меня и стала баюкать, и я уснул у нее в объятиях. Вот что я вам скажу: когда тебе страшно до колик, нет ничего лучше ласковых маминых рук.
Мама выписывала «Таймс». Газету нам приносили с утра пораньше, и мама обычно читала ее за завтраком, но на следующий день после случая в Центральном парке она читала какую-то рукопись. После завтрака мама велела мне одеваться и предложила сходить погулять, может быть, прокатиться на катере, а значит, это была суббота. Помню, я еще подумал, что это первые выходные, которые человек из Центрального парка уже не застал. От этой мысли мне опять сделалось жутко.
Мама отправилась в душ, а я пошел одеваться, но сперва заглянул в мамину спальню. На кровати лежала газета, открытая на странице, где печатают некрологи о людях, достаточно знаменитых, чтобы о них написали в «Таймс». Там была фотография человека из Центрального парка. Его звали Роберт Харрисон. В четыре года я уже читал на уровне третьего класса, чем моя мама ужасно гордилась, а в заголовке статьи не было никаких сложных слов: «ДИРЕКТОР ФОНДА «МАЯК» ПОГИБ В ДТП».
Я и потом видел мертвых – вы даже не представляете, насколько верна пословица, что в смерти люди такие же, как и в жизни, – иногда я рассказывал маме, но чаще все-таки нет, потому что я видел, что эти рассказы ее огорчают. В следующий раз мы с ней по-настоящему поговорили о моей странной способности уже после смерти миссис Беркетт, когда мама нашла ее кольца в шкафу.
В ту ночь, когда мама уложила меня и сама пошла спать, я думал, что не засну до утра, а если все же засну, мне приснится тот дяденька из Центрального парка с его расколотым надвое лицом и костями, торчащими вместо носа, – или мама, лежащая в гробу и одновременно сидящая на ступеньках у кафедры, где ее вижу лишь я один. Но насколько я помню, мне не снилось вообще ничего. На следующий день я проснулся в неплохом настроении, и мама тоже была в неплохом настроении, мы с ней шутили за завтраком, и она прикрепила к дверце холодильника мою индейку и послала ей звонкий воздушный поцелуй, и я рассмеялся, и мама отвела меня в школу, и миссис Тейт рассказала нам о динозаврах, и еще целых два года все было прекрасно и замечательно, как всегда. А потом все развалилось на части.
6
Когда мама наконец осознала, насколько все плохо, я случайно подслушал, как она говорила по телефону со своей давней подругой, редактором по имени Энн Стэйли. Они беседовали о дяде Гарри, и мама сказала:
– Он лишился ума еще прежде, чем лишился ума. Теперь-то я знаю.
В шесть лет я бы вообще ничего не понял. Но мне было восемь, уже почти девять, и я понял если не все, то многое. Она говорила о том геморрое, в который ввязался ее брат – и втянул маму – еще до того, как болезнь Альцгеймера с ранним началом внезапно подкралась и шарахнула его по мозгам.
Конечно, я с ней согласился; все-таки это была моя мама, и мы с ней были вдвоем против мира. Я ненавидел дядю Гарри за то, что он подложил нам такую свинью. И только потом, уже позже, когда мне было двенадцать или даже четырнадцать, я понял, что мама отчасти была виновата сама. Она могла бы остановиться, пока еще можно было остановиться, но ее понесло. Как и сам дядя Гарри, основавший литературное агентство «Конклин», она много знала о книгах, но совсем мало – о деньгах.
А ведь ее предупреждали, причем неоднократно. Предупреждала Лиз Даттон, ее подруга. Лиз служила детективом в нью-йоркской полиции и была ярой поклонницей «роанокской» серии Риджиса Томаса. Они с мамой познакомились на презентации одной из его книг и прониклись друг к другу с первого взгляда. Их тесная дружба потом вышла нам боком, о чем я еще расскажу, а пока добавлю только, что Лиз не раз говорила маме, что Фонд Маккензи как-то уж слишком хорош. Даже не верится, что такое бывает. Я не помню, когда это было. Примерно в то время, когда умерла миссис Беркетт. Но точно до осени 2008 года, когда рухнула вся экономика. И мы вместе с ней.
Дядя Гарри играл в ракетбол в каком-то пафосном клубе у пирса номер 90, где собирались большие люди. Среди его ракетбольных партнеров был известный бродвейский продюсер, который и рассказал дяде Гарри о Фонде Маккензи. Продюсер назвал его полной лицензией на мгновенное обогащение, и дядя Гарри прислушался к его словам. Да и с чего бы ему не прислушаться к человеку, который спродюсировал миллион мюзиклов, миллион лет идущих на Бродвее и по всей стране, так что роялти стекались со всех сторон? (Да, я знал, что такое роялти; я был сыном литературного агента.)
Дядя Гарри навел справки, поговорил с кем-то из крупных шишек, работавших в фонде (но не с самим Джеймсом Маккензи, потому что в масштабах вселенной больших финансов дядя Гарри был мелкой сошкой), и вложил в фонд немалую сумму. Доход был настолько высок, что дядя Гарри вложил еще больше денег. А потом еще больше. Когда у него обнаружили болезнь Альцгеймера – которая развивалась стремительно, – все его банковские счета перешли к маме, и мама не только не забрала дядины деньги из Фонда Маккензи, но и вложила свои.
Монти Гришэм, юрист по авторскому и договорному праву, который в то время сотрудничал с литературным агентством «Конклин», предупреждал маму, что лучше выйти из фонда, пока есть хорошая прибыль. Это было вскоре после того, как мама возглавила литагентство. Гришэм сказал, что, когда все идет так прекрасно, что тебе даже не верится своему счастью, значит, где-то наверняка есть подвох.
Я рассказываю обо всем, что узнал в детстве из обрывков подслушанных разговоров. Вы, я уверен, уже догадались, что Фонд Маккензи был обычной крупной финансовой пирамидой. Маккензи и его шайка ворья прикарманивали исчислявшиеся миллионами деньги вкладчиков и выплачивали высокие дивиденды по вкладам за счет привлечения новых инвесторов, каждому из которых вливалось в уши, что он или она – совершенно особенный человек, потому что лишь избранные единицы получают возможность вступить в фонд. Как потом выяснилось, таких избранных единиц было несколько тысяч: от бродвейских продюсеров до богатых вдов, обедневших практически в одночасье.
Такие схемы работают за счет постоянного притока средств, как новых инвесторов, так и старых: если инвестор доволен доходностью вложенных денег, он не только оставляет в фонде первоначальные капиталовложения, но и вкладывает еще больше. Поначалу все шло прекрасно, но в 2008-м экономика рухнула, и почти все вкладчики фонда разом ринулись забирать свои деньги, а денег-то не оказалось. Маккензи был мелкой рыбешкой по сравнению с Мейдоффом, королем финансовых пирамид, но по размаху не уступил старине Берни: присвоил себе более двадцати миллиардов долларов, в то время как на счету фонда остались жалкие пятнадцать миллионов. Он угодил в тюрьму, что, конечно, не может не радовать, но, как иногда говорила мама: «Крупа – не еда, а месть не оплатит счета».
– У нас все хорошо, – сказала мне мама, когда о деле Маккензи затрубили на всех новостных телеканалах и на первых страницах «Таймс». – Не волнуйся, Джейми.
Но круги у нее под глазами явно давали понять, что она волновалась, и у нее были на то причины.
Вот что я выяснил позже: у мамы осталось всего двести тысяч на доступных счетах, включая наши страховки. Что касалось ее обязательств, то вам лучше об этом не знать. Просто держите в голове, что наша квартира располагалась на Парк-авеню, офис маминого агентства – на Мэдисон-авеню, а санаторий для пациентов, нуждающихся в постоянном уходе, где жил дядя Гарри («Если это можно назвать жизнью», – звучит у меня в голове мамин голос), располагался в Паунд-Ридже и был, как вы понимаете, удовольствием не из дешевых.
Мама закрыла офис на Мэдисон-авеню, это был первый шаг. Какое-то время она работала прямо из дома, из нашего «Паркового дворца». Она оплатила аренду квартиры вперед, обналичив наши страховые полисы, включая и дядин тоже, но этих денег хватило месяцев на восемь-десять. Она перевела дядю Гарри в Спеонк. Она продала свой «ренджровер» («В городе нам все равно не нужна машина, Джейми», – сказала она) и несколько редких коллекционных первых изданий, в том числе «Взгляни на дом свой, ангел» с автографом Томаса Вулфа. Мама расплакалась из-за этого «Ангела» и сказала, что не получила и половины его истинной стоимости, но букинистический рынок тоже рухнул в сортир из-за наплыва продавцов, так же отчаянно нуждавшихся в деньгах, как и она сама. Нашу картину Эндрю Уайета тоже пришлось продать. Каждый день мама посылала проклятия на голову Джеймса Маккензи, ворюги и жадного кретина, феерического придурка и ходячего гнойного геморроя. Иногда она проклинала и дядю Гарри и говорила, что еще до конца этого года он будет жить на помойке – и поделом. Справедливости ради надо сказать, что она проклинала и себя тоже. За то, что не слушала Лиз и Монти.
Однажды она сказала мне:
– Я себя чувствую как тот кузнечик, который вместо того, чтобы работать, все лето играл на скрипке.
Наверное, это было в январе или феврале 2009 года. К тому времени Лиз иногда ночевала у нас, но в тот вечер мы с мамой были одни. Кажется, именно тогда я впервые заметил седину в маминых волосах, рыжих и очень красивых. Или, может быть, я запомнил тот вечер, потому что мама расплакалась и мне пришлось ее утешать, хотя я был еще маленьким и не умел утешать взрослых.
Летом мы перебрались из «Паркового дворца» в небольшую квартиру на Десятой авеню.
– Не такой уж и сарай, и цена подходящая, – сказала мама, а потом добавила: – Черта с два я уеду из города. Я не собираюсь сдаваться. И не собираюсь терять клиентов.
Агентство, ясное дело, переехало вместе с нами. Мама устроила офис в комнате, которая, как я понимаю, могла бы стать моей спальней, если бы все пошло не так хреново. Меня поселили в крошечной комнатушке, смежной с кухней. Летом там было жарко, зимой – холодно, но там хотя бы хорошо пахло. Видимо, раньше это была кладовая.
Дядю Гарри перевели в санаторий в Бейонне. Поверьте мне на слово, лучше вообще ничего не рассказывать об этом «сказочном» заведении. Единственным плюсом во всей затее было то, что бедный дядюшка Гарри все равно мало что соображал и не понимал, где находится; какая разница, где мочиться в штаны, хоть в Бейонне, хоть в «Беверли-Хилтон».
Что еще я запомнил из 2009 и 2010 годов: мама перестала ходить в парикмахерскую. Перестала обедать с друзьями и обедала только с клиентами агентства и только когда это было действительно необходимо (потому что расплачиваться в ресторане всегда приходилось ей). Она почти не покупала новую одежду, а если что-то и покупала, то в магазинах уцененных товаров. И она стала пить больше вина. Гораздо больше. Бывали вечера, когда они с Лиз – ее подругой, детективом нью-йоркской полиции и поклонницей творчества Риджиса Томаса; о ней я уже говорил – напивались на пару, причем напивались изрядно. На следующий день мама просыпалась с красными глазами, злая и раздраженная, и слонялась по офису прямо в пижаме. Иногда она напевала: «Снова настали паршивые дни, и чертово небо хмурится снова». В такие дни я чуть ли не с радостью убегал в школу. Разумеется, в обычную районную школу; мое обучение в частной школе благополучно накрылось благодаря Джеймсу Маккензи.
Но в этом темном, унылом царстве было и несколько лучиков света. Хотя букинистический рынок рухнул в сортир, люди все-таки читали книги: и романы, чтобы отвлечься от мрачной действительности, и руководства из серии «помоги себе сам», потому что, давайте начистоту, в 2009–2010 годах многие люди нуждались в помощи, но им приходилось справляться своими силами. Мама всегда любила читать детективы и с тех пор, как взяла на себя управление агентством «Конклин», собрала неплохую жанровую «конюшню». С ней постоянно сотрудничали десять или, может быть, даже двенадцать авторов детективов. Это были писатели далеко не первой величины, но пятнадцати процентов маминых агентских комиссионных хватало, чтобы оплачивать аренду нашей новой квартиры и все коммунальные счета.
Плюс была еще Джейн Рейнольдс, библиотекарь из Северной Каролины. Ее детективный роман «Рыжий и мертвый» пришел в агентство по почте, даже без предварительного уведомления, и мама была от него в восторге. Она устроила аукцион для издателей. Интерес проявили все крупные издательства, и в итоге права на публикацию книги были проданы за два миллиона долларов. Триста тысяч из этих двух миллионов поступили на счет агентства, и мама опять начала улыбаться.
– Мы еще очень не скоро вернемся на Парк-авеню, – сказала она. – Нам предстоит еще долго выбираться из ямы, которую нам вырыл твой дядя Гарри, но, похоже, мы все-таки выберемся.
– Я все равно не хочу возвращаться на Парк-авеню, – ответил я. – Мне здесь нравится.
Она улыбнулась и крепко меня обняла.
– Ты мой малыш и моя радость. – Она чуть отстранилась и внимательно на меня посмотрела. – Хотя уже не такой и малыш. Знаешь, о чем я мечтаю, Джейми?
Я покачал головой.
– Чтобы Джейн Рейнольдс выдавала по книге в год и чтобы «Рыжего и мертвого» экранизировали. Но даже если этого не случится, у нас все равно остается старина Риджис Томас с его сагой о Роаноке. Жемчужина в нашей короне.
Но «Рыжий и мертвый» оказался последним лучиком солнца перед затяжной бурей. Экранизация не состоялась, а издатели, бившиеся за книгу на аукционе, крепко ошиблись. Такое бывает. Книга провалилась, что не ударило по нашим финансам – деньги уже были выплачены, – но тут одновременно столько всего навалилось, и триста тысяч долларов разлетелись, как пыль на ветру.
Сначала у мамы воспалились зубы мудрости, и пришлось удалять все четыре. Это было нехорошо. Потом дядя Гарри, которому еще не исполнилось и пятидесяти лет, упал в санатории в Бейонне и проломил себе череп. Это было гораздо хуже.
Мама проконсультировалась с юристом, который помогал ей оформлять авторские договора (и получал немалое вознаграждение от агентства). Он порекомендовал другого юриста, специализирующегося на исках о возмещении вреда в результате небрежности или халатности ответственной стороны. Тот юрист заявил, что у нас стопроцентно выигрышное дело, и, возможно, так оно и было, но прежде чем дело дошло до суда, санаторий в Бейонне объявил о банкротстве. Единственным, кто заработал на этом деньги, был крутой адвокат по делам о халатности, чей банковский счет пополнился почти на сорок тысяч долларов.
– Сучья практика это учетное рабочее время, – сказала мама однажды вечером, когда они с Лиз Даттон допивали вторую бутылку вина. Лиз рассмеялась, потому что это были не ее сорок тысяч долларов. Мама рассмеялась, потому что была пьяна. И только я не смеялся. Что-то мне было совсем не смешно. И не только из-за счетов, выставленных адвокатом. Мы не расплатились с больницей за лечение дяди Гарри.
И что самое гадкое, на маму насело налоговое управление из-за дядиной задолженности по налогам. Дядя Гарри, как выяснилось, не доплачивал дяде Сэму, чтобы вкладывать больше денег в Фонд Маккензи. А значит, нам оставалось надеяться только на Риджиса Томаса.
На жемчужину в нашей короне.
7
Теперь смотрите.
Осень 2009-го. Обама – президент, экономика потихонечку улучшается. Но для нас не особо. Я учусь в третьем классе. Мисс Пирс вызывает меня к доске решать пример с дробями, потому что я круто решаю такие примеры. Я с семи лет умею вычислять проценты – напоминаю, я сын литагента. Мои одноклассники вертятся и шушукаются, потому что, ну правда, какая учеба в тот коротенький промежуток школьных занятий между Днем благодарения и Рождеством? Пример проще пареной репы, и я как раз успеваю записать ответ, когда дверь открывается и в класс заглядывает мистер Эрнандес, наш замдиректора. Они с мисс Пирс о чем-то беседуют вполголоса, а потом мисс Пирс просит меня выйти в коридор.
В коридоре меня дожидается мама, бледная, как молоко. Обезжиренное молоко. Моя первая мысль: умер дядя Гарри. Мой дядя Гарри, которому вставили в череп стальную пластину, защищавшую его бесполезные мозги. В каком-то чудовищном смысле это было бы хорошо, потому что существенно сократило бы наши расходы. Я спрашиваю у мамы, и она отвечает, что с дядей Гарри – к тому времени он переселился в занюханный дом престарелых в Пискатауэе (он продвигался все дальше и дальше на запад, как какой-то безмозглый задроченный пионер) – все хорошо.
Больше я ничего не успеваю спросить. Мама берет меня за руку и ведет к выходу. На желтой разметке на краю тротуара, где родители высаживают детей перед школой и забирают их после уроков, припаркован седан «форд» с синей мигалкой на приборной доске. Рядом с машиной стоит Лиз Даттон в синей куртке с жетоном Департамента полиции Нью-Йорка на груди.
Мама тащит меня к машине, но я упираюсь и заставляю ее остановиться.
– Что случилось? Скажи!
Я не плачу, но слезы уже на подходе. С тех пор как открылась вся правда о Фонде Маккензи, на нас обрушился целый шквал плохих новостей, и мне кажется, что я больше не выдержу. Но вот она, очередная плохая новость: Риджис Томас скончался.
Жемчужина выпала из короны.
8
Здесь я должен сделать отступление и рассказать о Риджисе Томасе. Мама всегда говорила, что писатели – странные люди, такие же странные, как экскременты, светящиеся в темноте, и мистер Томас – яркий тому пример.
На момент его смерти сага о Роаноке – как он сам называл свою серию – состояла из девяти книг, каждая толщиною с кирпич. «Старина Риджис не мелочится», – однажды сказала мама. Когда мне было восемь, я потихоньку стянул из шкафа первую книгу серии, «Гиблая топь Роанока», и прочел ее всю. Вообще без проблем. Читать я умел, и читал хорошо. И хорошо знал математику, и хорошо видел мертвых (это не хвастовство, это правда). К тому же «Гиблая топь Роанока» – все-таки не «Поминки по Финнегану».
Я не говорю, что она была плохо написана, вовсе нет; старина Риджис умел рассказать увлекательную историю. Там было множество приключений и страшных сцен (особенно сцены на Гиблой топи), поиски клада и изрядная порция старого доброго С-Е-К-С-А. Из этой книги я узнал истинный смысл числа шестьдесят девять и вообще узнал больше, чем положено знать восьмилетнему мальчику. В частности, о тех разах, когда мамина подруга Лиз оставалась у нас ночевать. Хотя осознанную параллель я провел уже позже.
Я бы сказал, что на каждые полсотни страниц «Гиблой топи» приходилась одна сцена секса, включая сцену на дереве, окруженном голодными аллигаторами. Речь идет о «Пятидесяти оттенках Роанока». В раннем отрочестве я научился дрочить именно по книгам Риджиса Томаса, и если для вас это избыточная информация, то уж извините.
Серия о Роаноке и вправду была настоящей сагой, то есть долгим и непрерывным повествованием с постоянным составом персонажей, переходящих из книги в книгу. Это были сильные мужчины с непременно светлыми волосами и смеющимися глазами, коварные злодеи с бегающим взглядом, благородные индейцы (в поздних книгах они превратились в благородных коренных американцев) и роскошные женщины с пышным, высоким бюстом. И всем до единого – и положительным героям, и злодеям, и пышногрудым красоткам – постоянно хотелось секса.
Ядром всей серии, подогревавшим читательский интерес (помимо дуэлей, убийств и секса), была страшная тайна. Тайна исчезновения всех жителей роанокской колонии. Не причастен ли к этому главный злодей Джордж Треджил? Куда могли деться все поселенцы? Живы они или нет? Под землей Роанока действительно скрыт древний город, где хранится великая древняя мудрость? Что означают слова: «Время – ключ ко всему», – сказанные Мартином Бетанкортом за секунду до смерти? Какой смысл заключается в загадочном слове «кроатоан», нацарапанном на столбе частокола вокруг брошенного поселения? Миллионы читателей изнывали от любопытства и с нетерпением ждали продолжения серии. Если кому-то из вас, людей будущего, трудно в это поверить, то попытайтесь найти что-нибудь авторства Джудит Кранц или Гарольда Роббинса. Их тоже читали миллионы.
Персонажи Риджиса Томаса – это классические проекции. Или, может быть, воплощения его собственных нереализованных желаний. Он сам был этаким мелким сморчком, чьи фотографии на обложках всегда приходилось нещадно ретушировать, чтобы его лицо не так сильно напоминало помятую дамскую сумочку. Он не ездил в Нью-Йорк, потому что вообще никуда не ездил. Человек, который писал книги о бесстрашных героях, прорубающих себе путь через непроходимые заросли на смертоносных болотах, дерущихся на дуэлях и занимающихся атлетическим сексом под звездным небом, был тишайшим холостяком-агорафобом и жил один в своем доме. Также он был законченным параноиком (по словам моей мамы) по части своих сочинений. Никто не видел черновиков его книг. Он всегда отсылал в издательство уже завершенное произведение, а после первых двух томов, имевших невероятный успех и месяцами державшихся на первых строчках всех списков бестселлеров, перестал высылать даже рукопись на редактуру. Он настаивал, чтобы его книги печатались в авторской редакции и чтобы никто не смел вычеркнуть ни единого слова.
Он был не из тех авторов, что выдает в год по книге (истинное Эльдорадо для литературных агентов), но он работал стабильно; новая книга с «Роаноком» в названии выходила каждые два-три года. Первые четыре тома были опубликованы, когда агентством руководил дядя Гарри, следующие пять томов выходили уже при маме. Включая и «Деву-призрака Роанока», предпоследнюю книгу серии, как объявил сам Томас. Он заверил своих верных читателей, что последняя книга ответит на все вопросы и раскроет все тайны, разбередившие любопытство читающей публики еще с первых вылазок на Гиблую топь. Эта книга должна была стать самой длинной из всех частей серии, страниц на семьсот. (Что позволило бы издателю добавить доллар-другой к изначальной закупочной цене.) Когда мама ездила к Томасу в его крошечный городок на севере штата Нью-Йорк, он сказал ей по секрету, что после саги о Роаноке начнет многотомную серию, посвященную «Марии Целесте».
Все было прекрасно, пока Риджис Томас не умер прямо за письменным столом, успев написать только первые тридцать страниц своего magnum opus[2]. Ему уже выплатили офигенный аванс в три миллиона долларов, но если книги не будет, аванс придется вернуть. Включая и нашу агентскую долю. Вот только вся наша доля была либо потрачена, либо отложена на вполне определенные нужды. И вот тут, как вы, наверное, уже догадались, должен был состояться мой выход.
Ладно, вернемся к моей истории.
9
Мы подошли к полицейской машине без отличительных знаков (я знал эту машину; не раз видел ее припаркованной у нашего дома с табличкой «СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» на приборной доске), и Лиз отодвинула в сторону полу куртки, чтобы показать мне пустую кобуру. Это была наша с ней традиционная шутка. Никакого оружия при моем сыне, таково было строгое правило, установленное моей мамой. Лиз всегда мне показывала пустую кобуру, и я не раз видел эту кобуру, брошенную на журнальном столике в нашей гостиной. Или на тумбочке у кровати в маминой спальне. С девяти лет я уже понимал, что это значит. В «Гиблой топи Роанока» очень даже подробно описаны пылкие сцены между Лорой Гудхью и Пьюрити Бетанкорт, вдовой Мартина Бетанкорта (она совершенно не соответствовала своему имени, означающему «непорочность»).
– А она что здесь делает? – спросил я у мамы, когда мы подошли к машине. Спросил прямо при Лиз, и это, наверное, было невежливо, а то и грубо, но меня только что выдернули из класса прямо посреди урока и огорошили сообщением, что наш главный источник дохода иссяк.
– Садись в машину, Чемпион, – сказала Лиз. Она всегда называла меня Чемпионом. – Время не ждет.
– Не хочу. У нас на обед будут рыбные палочки.
– Нет, – отрезала Лиз. – На обед будут вопперы с картошкой фри. Я угощаю.
– Садись в машину, – сказала мама. – Пожалуйста, Джейми.
И я сел в машину. На полу у заднего сиденья валялись обертки от буррито из «Тако Белл». В салоне пахло попкорном, приготовленным в микроволновке, и еще чем-то странным. У меня этот запах всегда ассоциировался с визитами в санатории к дяде Гарри. Но, по крайней мере, в машине у Лиз не было решетчатой перегородки между передним и задним сиденьями, как в полицейских телесериалах, которые смотрела мама (она обожала «Прослушку»).
Мама села спереди, и Лиз вырулила на дорогу. У первого же светофора, где горел красный, она включила мигалку. Мигалка, как ей и положено, замигала, и хотя Лиз не включила сирену, остальные машины все равно разъезжались в стороны, уступая нам дорогу, и уже очень скоро мы выехали из города на скоростную автомагистраль.
Мама обернулась ко мне, просунув голову между спинками передних сидений. Меня напугало ее лицо. Это было лицо человека, доведенного до отчаяния.
– Он может быть дома, Джейми? Тело наверняка увезли в морг, но, может быть, он еще дома?
Ответа на этот вопрос я не знал, но не сказал, что не знаю. Поначалу я вообще ничего не сказал. Потому что был удивлен. И обижен. Может быть, даже зол. Насчет злости я точно не помню, но хорошо помню свое удивление и обиду. Мама всегда говорила, чтобы я никому не рассказывал, что вижу мертвых. И я никому не рассказывал, как она и велела. Но она рассказала сама. Рассказала Лиз. Поэтому Лиз и приехала с ней и сейчас мчалась по трассе с включенной мигалкой, чтобы нам уступали дорогу.
Наконец я сказал:
– Давно она знает?
Я увидел, как Лиз подмигнула мне в зеркале заднего вида. Подмигнула со смыслом, мол, у нас есть секрет. Это мне не понравилось. Это был наш с мамой секрет, наш и больше ничей.
Протянув руку между сиденьями, мама схватила меня за запястье. Ее рука была очень холодной.
– Это не важно, Джейми. Просто скажи, он сейчас может быть дома?
– Да, наверное. Если он там умер.
Мама отпустила мою руку и попросила Лиз ехать быстрее, но Лиз покачала головой.
– Лучше не надо. Я не хочу объясняться с коллегами из полиции. Если нас засекут, то наверняка спросят, куда мы так мчимся. И что я им скажу? Что нам надо успеть побеседовать с мертвым дядькой, пока он окончательно не исчез? – По ее голосу было ясно, что она в это не верит и просто подшучивает над мамой. Просто дурачится. Меня это устраивало. А маме, кажется, было вообще все равно, что думает Лиз, главное, чтобы она довезла нас до Кротона-на-Гудзоне.
– Тогда как можно быстрее.
– Вас понял, Ти-Ти.
Мне не нравилось, когда она так называла маму. Этим словечком некоторые мои одноклассники обозначали поход в туалет. Но мама не возражала. В тот день она бы не возразила, если бы Лиз назвала ее Бонни Большиесиськи. Может быть, даже и не заметила бы.
– Кто-то умеет хранить секреты, а кто-то нет, – пробурчал я. Не смог удержаться. Так что, наверное, я все-таки разозлился.
– Перестань, Джейми, – сказала мама. – Вот только сердитого тебя мне сейчас и не хватало.
– Я не сердитый, – сердито ответил я.
Я знал, что они с Лиз близки, но мы-то с мамой должны были быть еще ближе. Она могла бы сначала спросить у меня, хочу ли я с кем-то делиться своим самым главным секретом. Но нет, она просто выболтала все Лиз ночью в постели, после того как они, по выражению Риджиса Томаса, «поднялись к вершинам блаженства по лестнице страсти».
– Я вижу, что ты расстроен, и потом можешь злиться на меня сколько угодно, но сейчас ты мне нужен, малыш. – Мама как будто забыла, что Лиз сидит рядом, но в зеркале заднего вида мне были видны глаза Лиз. Она очень внимательно слушала, слушала каждое слово.
– Хорошо. – Я видел, в каком состоянии мама, и меня это немного пугало. – Только ты успокойся, мам.
Она провела рукой по волосам и со всей силы дернула себя за челку.
– Все это жутко несправедливо. Все, что с нами произошло… и продолжает происходить… это какой-то лютый пиздец. – Мама взъерошила мне волосы. – Ты ничего не слышал.
– Нет, слышал, – ответил я. Потому что все еще злился. Но вообще-то мама была права. Помните, я говорил, что жил как бы в романе Диккенса, только содержащем нецензурную брань? Знаете, почему люди читают такие романы? Потому что их радует, что лютый пиздец происходит не с ними.
– Я два года вертелась, чтобы платить по счетам без просрочек. Изворачивалась, как могла, чтобы совсем уж не влезть в долги. И у нас дома горел свет, и еда всегда была на столе. Да, Джейми?
– Да-да-да, – сказал я, надеясь, что мама улыбнется. Она не улыбнулась.
– Но сейчас… – Она снова дернула себя за челку, уже изрядно взъерошенную. – Сейчас столько всего навалилось, и во главе списка – налоговое управление, чтоб ему провалиться. Я тону в море красных чернил. Вся надежда была на Риджиса. Я думала, он меня вытащит. А он, сукин сын, взял и помер! В пятьдесят девять лет! Кто вообще умирает в пятьдесят девять, если не страдает патологическим ожирением и не сидит на наркотиках?
– Больные раком? – подсказал я.
Мама шмыгнула носом и опять дернула себя за многострадальную челку.
– Спокойнее, Ти, – пробормотала Лиз и прикоснулась к маминой шее. Мне показалось, что мама этого не заметила.
– Книга могла нас спасти. Только книга, и ничего, кроме книги. – Она издала диковатый смешок, напугавший меня еще больше. – Я знаю, что он написал всего две-три главы, но больше никто об этом не знает, потому что он никому ничего не рассказывал. Никому, кроме меня. А до меня – только брату, пока Гарри не заболел. Риджис не делал никаких предварительных записей и набросков сюжета, Джейми. Чтобы не сдерживать творческий процесс, как он сам говорил. И еще он говорил, что ему не нужны никакие наброски. Он все держал в голове.
Она снова схватила меня за запястье и сжала так крепко, что остались синяки. Я заметил их позже, уже ближе к вечеру.
– И может быть, все еще держит.
10
В Тарритауне мы заехали в автокафе при «Бургер Кинге», и Лиз купила мне обещанный воппер. И шоколадный молочный коктейль. Мама не хотела нигде останавливаться, но Лиз настояла на своем.
– Молодому растущему организму пора подкрепиться. Ты не ешь, если не хочешь, а мальчику нужно поесть.
Мне понравилось, что она так сказала. Мне вообще многое нравилось в Лиз, но многое и не нравилось. Очень не нравилось. Я об этом еще расскажу, иначе никак, но пока просто скажем, что я испытывал сложные чувства к Элизабет Даттон, детективу второго ранга из Департамента полиции Нью-Йорка.
Она сказала кое-что еще по дороге в Кротон-на-Гудзоне, и я должен об этом упомянуть. Она говорила просто для поддержания беседы, но позже (да, опять это слово) стало понятно, что это важно. Лиз сказала, что Подрывник все-таки убил человека.
В последние годы сообщения о маньяке, называвшем себя Подрывником, периодически появлялись в новостях на местных телеканалах, в частности, на «Первом нью-йоркском», который мама смотрела почти каждый вечер, пока готовила ужин (а иногда и за ужином, если в новостях было что-то действительно интересное). Его «царство террора» – это придумал не я, а репортеры «Первого нью-йоркского» – началось еще до моего рождения, и Подрывник был уже чем-то вроде городской легенды. Типа Тонкого человека или Крюка, только со взрывчаткой.
– Кого? – спросил я. – Кого он убил?
– Долго нам еще ехать? – спросила мама. Ее совершенно не интересовал Подрывник; у нее хватало своих забот.
– Какого-то парня, который совершил большую ошибку, попытавшись воспользоваться одним из немногих оставшихся в Манхэттене таксофонов, – сказала Лиз, пропустив мимо ушей мамин вопрос. – Ребята из инженерно-саперного отряда считают, что бомба рванула сразу же, как он снял трубку. Две шашки динамита…
– Нам сейчас обязательно об этом говорить? – перебила мама. – И почему на всех чертовых светофорах всегда горит красный?
– Две динамитные шашки были прикручены к маленькой полочке под телефоном, куда люди обычно кладут монеты, – невозмутимо продолжила Лиз. – Подрывник, надо отдать ему должное, изобретательный сукин сын. Сейчас набирают еще одну оперативную группу – уже третью с тысяча девятьсот девяноста шестого, – и я буду проситься туда. Думаю, меня должны взять. Я работала в предыдущей опергруппе, так что опыт есть. А сверхурочные мне сейчас не помешают.
– Зеленый, – сказала мама. – Поехали, Лиз.
И мы поехали.
11
Я еще не доел картофель фри (уже остывший, но это нестрашно), когда мы свернули на узкую улочку под названием Брусчатый тупик. Может, там и вправду когда-то была брусчатка, но теперь она сменилась гладким асфальтом. В конце тупика стоял Брусчатый коттедж, большой каменный дом с резными деревянными ставнями и покрытой мхом крышей. Вы обратили внимание? Мхом! Очуметь, да? Ворота были распахнуты настежь. На воротных столбах, сложенных из такого же серого камня, что и сам дом, висели таблички. На одной было написано: «НЕ ВХОДИТЬ! НАМ УЖЕ НЕГДЕ ПРЯТАТЬ ТЕЛА». На другой: «ОСТОРОЖНО! ЗЛАЯ СОБАКА!» – под изображением оскалившейся овчарки.
Лиз остановилась и посмотрела на маму, приподняв брови.
– Единственным телом, которое Риджис тут похоронил, был его умерший попугайчик Фрэнсис, – сказала мама. – Названный в честь морехода Фрэнсиса Дрейка. А собаки у Риджиса никогда не было.
– Аллергия, – пояснил я с заднего сиденья.
Лиз подъехала к дому, остановила машину и выключила мигалку на приборной доске.
– Гараж закрыт, и я не вижу машин во дворе. Здесь кто-то есть?
– Никого, – сказала мама. – Его нашла домработница. Миссис Куэйл. Давина. У него больше никто не работал. Только миссис Куэйл и приходящий садовник. Милая женщина. Позвонила мне сразу, как только вызвала «скорую». Я подумала, что раз она вызвала «скорую», значит, не уверена, умер ли он. Но она сказала, что очень даже уверена, потому что раньше работала медсестрой в доме для престарелых и уж мертвого от живого всегда отличит, а «скорую» вызвала потому, что тело надо сначала везти в больницу. Я ей сказала, чтобы она шла домой, когда заберут тело. Она была жутко напугана. Спросила о Фрэнке Уилкоксе. Он управляет делами Риджиса. Я ей сказала, что сама с ним свяжусь. И я с ним свяжусь, но позже. Когда мы общались с Риджисом в последний раз, он говорил, что Фрэнк с женой сейчас в Греции.
– А что с прессой? – спросила Лиз. – Он был известным писателем.
– Господи, я не знаю. – Мама безумно огляделась по сторонам, словно высматривая репортеров, прячущихся в кустах. – Вроде бы никого нет.
– Может быть, они еще не знают, – сказала Лиз. – Если бы они что-то пронюхали, то примчались бы вслед за полицией и «скорой». К тому же тела здесь нет, а значит, нет и репортажа. Выдохни и успокойся, время у нас есть.
– Как я, по-твоему, должна успокоиться? Мне грозит банкротство, а у меня больной брат, за содержание которого мне надо будет платить еще, может, лет тридцать. У меня сын, который однажды окончит школу и соберется в университет. Тебе легко говорить – успокойся. Джейми, ты его видишь? Ты же сможешь его узнать, да? Ты его знаешь в лицо? Скажи, что ты его видишь.
– Я знаю его в лицо, но сейчас не вижу.
Мама застонала и прижала ладонь ко лбу под взъерошенной челкой.
Я потянулся к дверной ручке, и – сюрприз, сюрприз – никакой ручки не было и в помине. Я попросил Лиз открыть дверь, и она открыла. Мы все выбрались из машины.
– Постучи в дверь, – сказала Лиз. – Если никто не ответит, мы обойдем дом, подсадим Джейми, и он заглянет в окна.
Мы могли запросто заглянуть в окна, потому что все ставни – украшенные замысловатыми резными завитушками – были открыты. Мама поднялась на крыльцо, и мы с Лиз на минутку остались вдвоем.
– Ты действительно веришь, что видишь мертвых, как парнишка в том фильме? Да, Чемпион?
Мне было в общем-то по барабану, верит мне Лиз или нет, но что-то в ее голосе – как будто все это просто большая шутка – меня разозлило.
– Мама вам рассказала о кольцах миссис Беркетт?
Лиз пожала плечами.
– Это могла быть удачная догадка. Ты, случайно, не видел каких-нибудь мертвых по дороге сюда?
Я сказал, что не видел, хотя иногда мертвых не отличишь от живых, пока с ними не заговоришь… или пока они сами с тобой не заговорят. Однажды мы с мамой ехали в автобусе, и там была девушка с такими глубокими порезами на запястьях, что они походили на красные браслеты. Я был уверен, что она мертвая, хотя она вовсе не была страшной. Не такой страшной, как дяденька в Центральном парке. И сегодня, когда мы выезжали из города, я видел старушку в розовом банном халате, стоявшую у перехода на углу Восьмой авеню. Когда на светофоре зажегся зеленый для пешеходов, она осталась стоять на краю тротуара и озиралась по сторонам, как туристка. Ее волосы были накручены на такие специальные цилиндры, чтобы делать кудряшки. Возможно, она была мертвой. Но могла быть и живой: просто бродила в беспамятстве, как, бывало, бродил дядя Гарри, пока маме не пришлось поместить его в санаторий. Сам я такого не помню, но знаю по маминым рассказам. Она говорила, что, когда дядя Гарри начал выходить из дома в пижаме, она поняла, что надеяться на улучшение уже не стоит.
– Гадалки все время угадывают, – сказала Лиз. – И есть пословица, что даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время.
– Вы считаете, что моя мама свихнулась, а я ей помогаю сходить с ума?
Лиз рассмеялась.
– Это называется «потакать» или «потворствовать», Чемпион. Но нет, я не считаю, что твоя мама свихнулась. Просто она оказалась в отчаянном положении и хватается за соломинку. Знаешь, что это значит?
– Ага. Что мама свихнулась.
Лиз опять покачала головой, на этот раз уже тверже.
– На нее столько всего навалилось. Понятно, что у нее стресс. Но твои выдумки ей не помогут. Надеюсь, ты это понимаешь.
К нам подошла мама.
– Никто не открыл. Дверь заперта. Я проверила.
– Ладно, – сказала Лиз. – Заглянем в окна.
Мы обошли дом. Я без труда заглянул в окна столовой, потому что они доходили до самой земли, но окна всех остальных комнат располагались довольно высоко, уж точно не по моему малому росту. Лиз приходилось подсаживать меня, сцепив руки. Я заглянул в большую гостиную с телевизором на полстены. Я заглянул в столовую, где за длинным столом могли бы запросто разместиться все игроки основного состава «Нью-Йорк метс» и, возможно, еще кто-то из запасных. Как-то странно для человека, который всегда жил один и ненавидел большие компании. Я заглянул в комнату, которую мама называла малой гостиной. Я заглянул в кухню в задней части дома. Мистера Томаса нигде не было и в помине.
– Может быть, он наверху? Я никогда там не бывала, но если он умер в постели… или в ванной… Может, он все еще…
– Вряд ли он умер, сидя на толчке, как Элвис, хотя не исключен и такой вариант.
Я рассмеялся. Меня всегда очень смешило, когда унитаз называли толчком, но мне сразу же расхотелось смеяться, когда я увидел мамино лицо. Все было очень серьезно, и мама теряла надежду. Мы обнаружили заднюю дверь, ведущую в кухню, но она тоже была заперта.
Мама обернулась к Лиз:
– Может быть, можно ее…
– Даже не думай, Ти, – сказала Лиз. – Мы не будем взламывать дверь. Мне хватает проблем на работе и без незаконного проникновения в дом недавно скончавшегося знаменитого писателя. Здесь наверняка установлена сигнализация, и мне как-то не хочется объясняться с ребятами из службы охраны. Или с местной полицией. Кстати о полиции… он умер без свидетелей, да? Тело нашла домработница?
– Да, миссис Куэйл. Она мне позвонила, я тебе говорила…
– У полиции будут вопросы. Может, ее уже вызвали на допрос, эту миссис Куэйл. Либо в полицию, либо к судмедэксперту. Я не знаю, какой здесь порядок, в округе Уэстчестер.
– Потому что он был знаменитым? Потому что у них могут быть подозрения, что его убили?
– Потому что это стандартная процедура. И да, наверное, потому, что он был знаменитым. Суть в том, что мне бы хотелось уехать отсюда до того, как приедут они.
У мамы поникли плечи.
– Так что, Джейми? Его нигде нет?
Я покачал головой.
Мама вздохнула и посмотрела на Лиз.
– Может, проверим гараж?
Лиз пожала плечами, как бы говоря: твоя затея, тебе и решать.
– Джейми? Как ты думаешь?
Я совершенно не представлял, зачем бы мистеру Томасу околачиваться у себя в гараже, хотя, с другой стороны, почему бы и нет? Может быть, там стояла его любимая машина.
– Давайте проверим. Раз уж мы все равно здесь.
Мы направились к гаражу, и тут я замер на месте. Сразу за осушенным на зиму бассейном начиналась гравийная дорожка. Вдоль нее росли деревья, но поскольку была уже поздняя осень и с деревьев опали почти все листья, я без труда разглядел маленький зеленый домик. Я показал на него пальцем:
– Что это?
Мама снова хлопнула себя по лбу. Я уже начал всерьез опасаться, что от всех этих хлопков у нее разовьется опухоль мозга или что-то типа того.
– Господи, La Petite Maison dans le Bois[3]! Как же я сразу не сообразила?
– Что это? – повторил я.
– Его кабинет! Где он пишет книги! Если он где-то и есть, то наверняка там! Пойдем!
Она схватила меня за руку и потащила за собой. Мы обогнули бассейн, но когда вышли на дорожку, я резко остановился. Мама продолжала быстро идти вперед, и если бы Лиз не схватила меня за плечо, я бы, наверное, впечатался в гравий лицом.
– Мама? Мама!
Она нетерпеливо обернулась ко мне. Только «нетерпеливо» – не совсем верное слово. Взгляд у нее был если и не совершенно безумный, то близко к тому.
– Пойдем! Точно тебе говорю, если он где-то здесь, то наверняка там!
– Пожалуйста, Ти, успокойся – сказала Лиз. – Сейчас мы проверим его писательскую хижину, а потом нам пора ехать.
– Мама!
Мама как будто меня не слышала. Она вдруг расплакалась, хотя не плакала почти никогда. Даже тогда, когда узнала сумму задолженности по налогам, которые не заплатил дядя Гарри. Тогда она просто ударила кулаком по столу и назвала налоговое управление сворой кровососущих ублюдков. Но сейчас мама плакала.
– Ты езжай, если хочешь, а мы с Джейми останемся, пока он точно не убедится, что все впустую. Тебе-то, может, весело потешаться над сумасшедшей…
– Не надо так говорить!
– …но речь идет о моей жизни…
– Я понимаю…
– …и жизни Джейми, и…
– МАМА!
Вот чем плохо быть маленьким: взрослые тебя просто не замечают, когда увлекаются своими разборками.
– МАМА! ЛИЗ! ЗАМОЛЧИТЕ! ВЫ ОБЕ!
Они замолчали. Они обернулись ко мне. Так мы и стояли, две женщины и мальчик в толстовке с эмблемой «Нью-Йорк метс», рядом с пустым бассейном, в пасмурный ноябрьский день.
Я указал на гравийную дорожку, ведущую к домику, где мистер Томас писал свои книги о Роаноке.
– Он здесь, – сказал я.
12
Он шел прямо к нам, что меня совершенно не удивило. Многих мертвых – не всех, но многих – поначалу тянет к живым, как ночных мотыльков тянет на свет лампы. Я сам понимаю, что это не слишком удачное сравнение, но не знаю, как объяснить лучше. Даже если бы я не знал, что он умер, то все равно сразу бы понял, что он уже мертвый. Понял бы только по его наряду. На улице было прохладно, а мистер Томас шел к нам в легкой белой футболке, мешковатых шортах и плетеных сандалиях на босу ногу (мама называет такие сандалии обувкой, как у Иисуса). И на нем было еще кое-что. Нечто странное: желтый матерчатый пояс с приколотой к нему розеткой из синей ленты.
Краем уха я слышал, как Лиз говорит маме, что здесь никого нет и что я притворяюсь. Но меня совершенно не волновало, что думает Лиз. Я вырвал руку из маминой руки и пошел навстречу мистеру Томасу. Он остановился.
– Добрый день, мистер Томас, – сказал я. – Меня зовут Джейми Конклин. Я сын Тии. Мы с вами не знакомы.
– Ой, да ладно, – сказала Лиз у меня за спиной.
– Помолчи, – шикнула на нее мама, но, видимо, скептицизм Лиз оказался заразным, потому что мама спросила, точно ли я уверен, что вижу мистера Томаса.
Я не стал ей отвечать. Мне было любопытно, что это за пояс у мистера Томаса. В котором он вышел к нам. В котором он умер.
– Я сидел у себя в кабинете, – сказал он. – Этот пояс я надеваю всегда, когда сажусь за работу. Это мой талисман.
– А что это за синяя лента?
– Приз за победу на окружном конкурсе правописания среди шестиклассников. Я был лучшим среди всех участников из двадцати школ. На конкурсе штата я проиграл, но меня наградили за победу на региональном этапе. Мама сшила мне пояс и приколола к нему ленту.
С моей точки зрения, это было как-то странно, до сих пор носить пояс с наградой, полученной в шестом классе, то есть для мистера Томаса – целую вечность назад, но он говорил об этом спокойно, без всякой неловкости или смущения. Иногда мертвые способны любить – помните, я вам рассказывал, как миссис Беркетт поцеловала мистера Беркетта в щеку? – иногда способны ненавидеть (о чем я узнал позже), но большинство других чувств и эмоций, кажется, умирает вместе с человеком. По-моему, даже любовь после смерти тускнеет и теряет силу. Мне неприятно это говорить, но ненависть проявляется ярче и держится дольше. Я думаю, что призраки (в отличие от просто мертвых) – это мертвые, сохранившие в себе ненависть. Живые люди боятся призраков, потому что они действительно страшные.
Я обернулся к маме и Лиз.
– Мам, ты знала, что мистер Томас носит пояс, когда пишет книги?
Она широко распахнула глаза.
– Он говорил об этом в интервью для «Салона» лет пять-шесть назад. Он сейчас на нем?
– Ага. Желтый пояс с синей лентой. Это награда…
– За победу на конкурсе правописания! Когда он давал интервью, еще рассмеялся и назвал это «глупой причудой».
– Может быть, – сказал мистер Томас. – Но у многих писателей есть свои глупые причуды и суеверия. В этом смысле мы точно как бейсболисты, Джимми. Да и кто станет спорить с автором девяти крепких бестселлеров по версии «Нью-Йорк таймс»?
– Я не Джимми, а Джейми, – поправил я.
– Ты рассказывала Чемпиону об этом интервью. Наверняка так и было, Ти, – вмешалась Лиз. – Или он сам прочитал. Он прекрасно читает. Он знал, вот и все. И он…
– Заткнись, – сердито оборвала ее мама. Лиз подняла руки, словно сдаваясь.
Мама подошла ко мне и встала рядом, глядя на гравийную дорожку, для нее – абсолютно пустую. Мистер Томас стоял прямо перед ней, запустив руки в карманы своих мешковатых шорт. Шорты держались на честном слове, и я очень надеялся, что мистер Томас не будет слишком уж сильно давить на карманы, потому что, как мне показалось, трусов под шортами не было.
– Скажи ему все, что я просила сказать!
Мама хотела, чтобы я сказал мистеру Томасу, что он должен нам помочь, иначе тонкий финансовый лед, по которому мы ходим уже больше года, сломается прямо под нами и мы утонем в море долгов. И что агентство теряет клиентов, потому что некоторые из маминых авторов знают, что все очень плохо, и агентство, возможно, придется закрыть. Крысы, бегущие с тонущего корабля, так назвала их мама однажды вечером, когда мы с ней были вдвоем и она допивала четвертый бокал вина.
Но я не стал заморачиваться со всей этой пустой болтовней. Мертвые должны отвечать на вопросы – по крайней мере, пока не исчезнут совсем – и должны говорить правду. Так что я сразу перешел к делу:
– Мама хочет узнать, о чем будет книга «Тайна Роанока». Она хочет узнать весь сюжет. Вы уже знаете весь сюжет, мистер Томас?
– Конечно. – Он засунул руки еще глубже в карманы, так что стала видна тонкая полоска волос, идущая вниз от пупка. Я не хотел это видеть, но видел. – Я никогда не сажусь за книгу, не продумав сюжет от начала и до конца.
– И вы все держите в голове?
– Приходится. А как иначе? Любые записи можно украсть. Выложить в Интернет. Испортить сюрприз.
Если бы он был живым, это прозвучало бы как паранойя. Но, будучи мертвым, он лишь констатировал факт. То, что он сам считал фактом. И кстати, в его словах был резон. В Интернете полно всяких троллей, которые вечно выкладывают на всеобщее обозрение чужие секреты: от скучных политических тайн до действительно важных вещей типа того, что должно произойти в финале очередного сезона «За гранью».
Лиз отошла от нас с мамой, уселась на скамейку рядом с бассейном и, положив ногу на ногу, закурила сигарету. Она, очевидно, решила, что пусть сумасшедшие заправляют в дурдоме. Я подумал, что так даже лучше. У Лиз было немало плюсов, но конкретно в тот день она только мешала.
– Мама хочет, чтобы вы рассказали мне все, что будет в последней книге о Роаноке, – сказал я мистеру Томасу. – Я перескажу ей, и она напишет книгу сама. Она скажет издателю, что вы успели прислать ей почти всю книгу вместе с подробными указаниями, как надо закончить последние две-три главы.
При жизни он взвыл бы волком, услышав подобное предложение: что кто-то другой допишет его книгу; в жизни мистера Томаса не было ничего важнее работы, и он относился к ней очень ревниво. Но то, что осталось от прежнего мистера Томаса, лежало сейчас где-то в морге, одетое в мешковатые шорты цвета хаки и желтый матерчатый пояс, которые были на нем в момент смерти за рабочим столом. Тот мистер Томас, который говорил со мной, уже не настолько ревниво хранил свои тайны.
Он спросил только одно:
– А она сможет?
По дороге к Брусчатому коттеджу мама уверила меня (и Лиз), что запросто сможет написать за него книгу. Риджис Томас настойчиво требовал, чтобы редактор не трогал ни единого слова в его сочинениях, но мама всегда редактировала его книги, не ставя его в известность – еще с тех времен, когда дядя Гарри был в здравом уме и стоял у руля. Иногда мамины правки были довольно серьезными, но мистер Томас их не замечал… во всяком случае, он ни разу не возмутился. Если кто-то и мог идеально скопировать стиль Риджиса Томаса, то как раз моя мама. Проблема была не в стиле. Проблема была в сюжете.
– Да, она сможет, – сказал я, не вдаваясь в подробности, потому что так было проще.
– Кто эта женщина? – спросил мистер Томас, указав пальцем на Лиз.
– Это мамина подруга. Ее зовут Лиз Даттон.
Лиз быстро глянула в мою сторону и закурила еще одну сигарету.
– Твоя мама с ней трахается? – спросил мистер Томас.
– Да, скорее всего.
– Я так и подумал. Это видно по тому, как они друг на друга смотрят.
– Что он сказал? – встревоженно спросила мама.
– Он спросил про вас с Лиз, близкие ли вы подруги, – ответил я. Получилось как-то совсем криво, но ничего другого мне в голову не пришло. – Так вы нам расскажете «Тайну Роанока»? – обратился я к мистеру Томасу. – Я имею в виду, всю книгу, не только саму тайну.
– Да.
– Он говорит «да», – сказал я маме, и она тут же достала из сумки свой телефон и маленький кассетный диктофон. Чтобы не пропустить ни единого слова.
– Скажи ему, пусть расскажет как можно подробнее.
– Мама просит, чтобы вы…
– Я ее слышу, – перебил меня мистер Томас. – Я мертвый, а не глухой.
Его шорты сползли еще ниже.
– Круто, – сказал я. – Мистер Томас, может, вы подтянете шорты? А то отморозите все хозяйство.
Он подтянул шорты повыше, но они все равно еле держались на его костлявых бедрах.
– А что, на улице холодно? Мне вроде нормально, – сказал он и тут же добавил без всякого перехода: – А Тия-то постарела, Джимми.
На этот раз я не стал его поправлять и говорить, что меня зовут Джейми. Я украдкой взглянул на маму и оторопел. Она и вправду казалась старой. Не то чтобы совсем-совсем старой, но постаревшей. Раньше я этого не замечал.
– Расскажите нам все, – попросил я. – Начните с начала.
– А откуда же еще? – сказал мистер Томас.
13
Он говорил полтора часа без перерыва. Под конец я совсем выдохся, и мама, мне кажется, тоже. Мистер Томас остался таким же, каким и был: стоял перед нами в своих постоянно сползающих шортах и желтом поясе, почему-то трогательном и жалком, съехавшем под его обвисший живот. Лиз поставила машину в воротах, перегородив въезд, и включила мигалку на приборной доске. Это было правильное решение, потому что известие о смерти мистера Томаса уже распространилось по всей округе и люди начали собираться у Брусчатого коттеджа и фотографировать дом. Один раз Лиз подошла к маме и спросила, долго ли мы еще тут пробудем. Мама лишь отмахнулась и сказала, что она может пока осмотреть территорию или заняться еще чем-нибудь, но Лиз в основном просто топталась неподалеку.
Я жутко устал еще и потому, что для меня это был большой стресс, ведь от книги мистера Томаса зависело наше будущее. Уже тогда мне казалось несправедливым, что на меня, девятилетнего мальчика, свалилась такая ответственность. Но выбора не было. Я должен был слушать мистера Томаса и повторять все, что он говорил, маме – вернее, маминым записывающим устройствам, – а мистер Томас говорил без умолку. Он не хвалился, когда заявил, что держит все в голове. К тому же мама постоянно задавала вопросы, чтобы уточнить тот или иной момент. Мистер Томас, кажется, не возражал (или лучше сказать, ему было по барабану), но меня самого начало доставать, что мама вечно лезет с вопросами и тем самым затягивает разговор. И еще у меня пересохло во рту. Когда Лиз принесла мне стаканчик с оставшейся кока-колой из «Бургер Кинга», я допил все залпом и обнял ее.
– Спасибо, – сказал я, отдавая обратно бумажный стаканчик. – Вы меня спасли.
– Всегда пожалуйста.
Лиз уже не выглядела скучающей. Теперь она выглядела задумчивой. Она не видела мистера Томаса и, наверное, до сих пор не могла поверить, что он и вправду тут есть, но она понимала, что происходит что-то очень и очень странное, потому что своими ушами слышала, как девятилетний мальчишка излагает закрученный сюжет большого романа с дюжиной главных действующих лиц и как минимум двумя дюжинами второстепенных. Добавьте сюда и постельную сцену втроем (под воздействием канареечной травы, любезно предоставленной коренными американцами из племени ноттоуэй) с участием Джорджа Треджила, Пьюрити Бетанкорт и Лоры Гудхью. Которая в итоге забеременела. Бедной Лоре всегда доставалось дерьмо на палочке.
В самом конце мистер Томас раскрыл свою главную тайну, и это было что-то с чем-то. Я не скажу вам, что именно. Читайте книгу и выясняйте все сами. Если, конечно, вы ее не читали.
– Сейчас будет последнее предложение, – сказал мистер Томас, по-прежнему свеженький как огурчик… хотя, наверное, «свеженький» – не совсем подходящее слово для мертвого человека. Однако его голос стал потихонечку угасать. Почти незаметно, но все же. – Потому что последнее предложение я всегда сочиняю первым. Это маяк, который указывает мне путь.
– Сейчас будет последнее предложение, – сказал я маме.
– Слава богу, – ответила она.
Мистер Томас поднял вверх указательный палец, как актер старых времен, готовящийся произнести свой основной монолог.
– «В тот день алое солнце клонилось к закату над опустевшим поселком, и слово, вырезанное на столбе частокола, то самое слово, над разгадкой которого будет биться еще не одно поколение, пылало, словно иллюминированное кровью: КРОАТОАН». Скажи ей, что «кроатоан» надо сделать заглавными буквами, Джимми.
Я пересказал его слова маме (хотя не совсем понимал, что такое «иллюминированное кровью»), а потом спросил у мистера Томаса, точно ли мы закончили. Как только он сказал «да», я услышал рев приближающихся полицейских сирен.
– О боже, – сказала Лиз, но без паники в голосе. Она как будто чего-то подобного и ждала. – Вот и они.
Лиз расстегнула молнию на куртке, чтобы был виден ее полицейский жетон, прикрепленный к поясу. Она поспешила во двор перед домом и вернулась в сопровождении двух полицейских. Они были в куртках с эмблемой полиции округа Уэстчестер.
– Шухер, легавые, – сказал мистер Томас, и я совершенно не понял, что это значит. Позже, когда я спросил у мамы, она объяснила, что это сленг из стародавних 1950-х годов.
– Это мисс Конклин, – сказала Лиз. – Моя подруга и литературный агент мистера Томаса. Она попросила меня приехать сюда вместе с ней, потому что боялась, что в дом может проникнуть кто-нибудь посторонний, чтобы украсть сувениры.
– Или рукописи, – добавила мама. Ее диктофон уже лежал в сумке, телефон – в заднем кармане джинсов. – Особенно рукопись последней книги из цикла романов, над которым работал мистер Томас. – Лиз красноречиво взглянула на маму, мол, лучше молчи, но мама продолжала говорить: – Он закончил книгу буквально на днях. Этот роман с нетерпением ждут миллионы читателей. Я должна быть уверена, что у них будет возможность его прочитать.
Полицейских совершенно не интересовали какие-то рукописи; они приехали осмотреть комнату, где умер мистер Томас. И заодно убедиться, что у посторонних, находившихся рядом с домом покойного, есть на то уважительные причины.
– Как я понимаю, он умер в своем кабинете, – сказала мама, указав пальцем на La Petite Maison.
– Да, – сказал один из полицейских. – Нам именно так и сказали. Мы все осмотрим. – Ему пришлось наклониться, упершись руками в колени, чтобы оказаться со мною лицом к лицу; я тогда был совсем коротышкой. – Как тебя звать, сынок?
– Джеймс Конклин. – Я выразительно покосился на мистера Томаса. – Джейми. Это моя мама. – Я взял маму за руку.
– Ты сегодня прогуливаешь уроки, Джейми?
Пока я раздумывал над ответом, в разговор вклинилась мама:
– Обычно я забираю его из школы, но сегодня боялась, что не успею приехать к концу уроков, и мы забрали его пораньше. Да, Лиз?
– Так точно, – подтвердила Лиз. – Коллеги, мы не заходили в его кабинет, поэтому не могу вам сказать, заперт он или нет.
– Домработница, которая нашла тело, оставила дверь открытой, – сказал полицейский, разговаривавший со мной. – Но она дала мне ключи. Мы там все осмотрим, а потом запрем дверь.
– Скажи им, что не было никакого криминала, – обратился ко мне мистер Томас. – Я умер сам, от сердечного приступа. Боль была адской.
Я уж точно не собирался ничего им говорить. Если тебе всего девять лет от роду, это не значит, что ты дурачок.
– У вас есть ключи от ворот? – спросила Лиз. Она уже полностью переключилась в профессиональный режим. – Когда мы приехали, они были открыты.
– Ключи есть, и мы закроем ворота, когда все закончим, – сказал второй полицейский. – Очень правильное решение – поставить машину на въезде, детектив.
Лиз развела руками, как бы говоря: такова наша работа.
– Мы, пожалуй, поедем, чтобы вам не мешать.
Полицейский, разговаривавший со мной, спросил:
– Как выглядит эта ценная рукопись? Нам надо знать, чтобы убедиться, что с ней ничего не случится.
Этот мяч мама отбила легко:
– На прошлой неделе мистер Томас прислал мне оригинал. На флешке. Других копий наверняка нет. В том, что касалось его работы, он был параноиком.
– Это точно, – согласился мистер Томас. Его шорты снова сползли.
– Хорошо, что вы присмотрели за домом, пока мы не приехали, – сказал второй полицейский. Они оба пожали нам руки: и маме, и Лиз, и мне тоже – и направились по дорожке к зеленому домику, где умер мистер Томас. Позже я узнал, что многие писатели умерли прямо за письменным столом. Видимо, это такая писательская традиция.
– Пойдем, Чемпион. – Лиз попыталась взять меня за руку, но я не дался.
– Отойдите к бассейну на минутку, – сказал я. – Вы обе.
– Зачем? – удивилась мама.
Я посмотрел на нее таким взглядом, каким, наверное, не смотрел никогда раньше: как будто она была совсем глупой. И конкретно тогда мне казалось, что она и вправду какая-то глупая. Они обе какие-то глупые. И вдобавок еще и чертовски невежливые.
– Затем, что ты получила, что хотела, и надо хотя бы сказать «спасибо».
– О боже. – Мама снова хлопнула себя по лбу. – О чем я вообще думала? Спасибо, Риджис. Большое спасибо.
